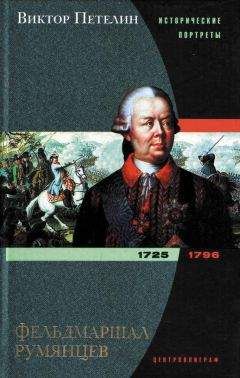В свете всего сказанного становится очевидной необходимость еще раз поставить вопрос о более активной защите русской национальной культуры от антипатриотических, антисоциалистических сил, правильном освещении ее истории в печати, кино и телевидении, раскрытии ее прогрессивного характера, исторической роли в создании, укреплении и развитии русского государства. Безотлагательным вопросом является создание журнала, посвященного проблемам национальной русской культуры («Русская культура»). Подобные журналы издаются во всех союзных республиках, кроме РСФСР...»
Брежнев поручил Секретариату ЦК КПСС рассмотреть это письмо и подготовить вопрос для обсуждения на Политбюро. Отделы ЦК подготовили справки, в итоге было принято решение: «Разъяснить товарищу М.А. Шолохову действительное положение дел с развитием культуры в стране и в Российской Федерации, необходимость более глубокого и точного подхода к поставленным им вопросам в высших интересах русского и всего советского народа», а в «Записке», подготовленной для обсуждения, был отмечен «бурный рост русской советской культуры», приведены многочисленные цифры и факты этого роста, указано, что письмо Шолохова, продиктованное заботой о русской культуре, «отличается, к сожалению, явной односторонностью и субъективностью оценки ее современного состояния, как и постановки вопроса о борьбе с нашими идеологическими противниками» (см. ЦХСД. Ф. 89. Д. 16. С. 1-18 и др.).
Так что С. Куняев, как обычно драматизировавший свою участь после передачи «Письма» в ЦК КПСС, особо ничем не рисковал, но с этим автор воспоминаний явно не согласен: «Я не играл. Это была борьба за жизнь, это было отчаянным шагом, поскольку я предчувствовал, что ежели мы не выиграем сражение сейчас, в выгодных для нас условиях, то впереди нас ждут худшие времена» (I. С. 300).
Хочется, хочется автору воспоминаний предстать перед своими читателями этаким борцом, героем, страдальцем и мучеником. Но мы, его современники, помним, что пребывание его в группе Бориса Слуцкого и Александра Межирова доставило ему должность рабочего секретаря Московской писательской организации, а после перехода в противоборствующую с ней и за активное участие в борьбе с сионизмом получил тоже неплохую должность – главного редактора журнала «Наш современник», направление которого полностью не может быть принято по разным соображениям, один за другим выходили из редколлегии яркие писатели, русские патриоты и державники, из-за яростного субъективизма и предвзятости в отборе публикуемых сочинений, в 90-е годы XX века.
Любопытны страницы воспоминаний о Татьяне Глушковой, которая никак не могла определиться в острой литературной борьбе. Еще в 1976 году, напоминает Куняев, кумирами Глушковой были Сарнов, Урбан, Аннинский, Роднянская. «Однако к концу 70-х годов Глушкова совершила дрейф, уплыла из объятий Сарнова и Роднянской в «патриотический лагерь» (I. С. 424). Куняев описывает один из ночных разговоров с Межировым в квартире Татьяны Глушковой: «Словно посланцы двух потусторонних сил, мы сражались с ним за ее душу, а Татьяна, еще колебавшаяся, стоит ли ей прибиваться к русскому стану, ждала исхода поединка». Куняев и Межиров сражались за душу, а Татьяна «всю ночь сидела почти молча и непрерывно курила, не зная, в чьи руки – русские или еврейские – попадет ее судьба» (П. С. 165).
Несчастная женщина, печальна ее судьба и как литератора... Стоило Вадиму Кожинову однажды напомнить ее колебания и «дрейфы», как она набросилась на него со своими обвинениями, порой справедливыми, порой несправедливыми. И прав был Александр Межиров в ту ночь, сказав о Татьяне Глушковой:
– Не радуйтесь... Она и от вас когда-нибудь уйдет, как сегодня ушла от меня...
Татьяна Глушкова – человек одаренный, самостоятельный в своем творчестве. Однажды ей показалось, что Вадим Кожинов в чем-то не прав, она попросила Куняева дать ей возможность высказаться по этому поводу на страницах «Нашего современника». «Я отказал ей в этой прихоти, – вспоминает Куняев. – Наступил конец отношений, а за ним началась эра бесконечных статей и интервью Глушковой в «Русском соборе» и в «Молодой гвардии» против Кожинова, Шифаревича, Бородина, Казинцева, Распутина, против «Нашего современника» вообще» (П. С. 425). А почему отказал? Не умещалось в прокрустово ложе идеологии главного редактора журнала, который раз и навсегда определил, что думать каждому из русской партии? И не моги выходить из этих рамок?
Всю мою долгую литературную жизнь меня удивляла нетерпимость к инакомыслящим. Работая в «Молодой гвардии», я однажды затеял дискуссию, напечатал две-три статьи, Феликс Кузнецов, тогда еще не определившийся в своей творческой позиции и ходивший в «либералах», предложил свою статью. Я с радостью прочитал ее и принял, хоть в чем-то и не соглашался, но главный редактор ее «зарубил»: не «наш». А ведь это давняя традиция русской журналистики: давать высказаться на страницах журнала разномыслящим творческим лицам.
Или вот совсем недавно Владимир Бушин совершенно справедливо покритиковал Вадима Кожинова (см.: Патриот. 2001. № 30 – 31. Июль-август), так его тут же обругали, а вслед за этим отлучили от изданий, в которых он до этих пор был желанным автором.
Вот эта нетерпимость, далеко не русская черта, сказывается на многих страницах воспоминаний Станислава Куняева – и по отношению к Сельвинскому, и по отношению к Виктору Астафьеву, и по отношению к Александру Межирову и к другим.
Многие годы дружил с Межировым, в 1968 году даже сочинил восторженную рецензию о его поэзии, «уставший к тому времени от постоянного комиссарского надзора Слуцкого, с готовностью прислонился к Александру Петровичу и даже стишок о нем написал».
Куняев дарил Межирову свои книги с надписью – «одному из немногих близких», «с любовью», но писал, оказывается, зная, что Межиров – «не просто мистификатор», но и изощренный интриган, «светский сплетник и просто лжец»: «Шурик-лгун» – под этим прозвищем он был известен всей литературной Москве – и еврейской и «антисемитской» (П. С. 162 – 163). Не могу понять, как можно знать, что Межиров – «Шурик-лгун», и дарить ему книги «с любовью»? Видимо, для Куняева того времени это нормально: «посредник и маркитант, предлагающий свои услуги», помог нашему ратоборцу наладить «связи с грузинскими и литовскими поэтами», «получать заказы на переводы их книг», «зарабатывать деньги». Ну как же после этого не подарить книгу «с любовью». А потом, когда Межиров перестал быть полезным, можно и написать о нем, что «последние годы его жизни в нашей стране были постыдны, смешны и унизительны». Ничего смешного и унизительного в том, что он трагически пережил наш трагический беспредел нет. Он честно пытался быть русским поэтом, «почвенником», восторженно писал о социализме, коммунистах, а при виде крушения всего того, чему верил, он разочаровался и уехал в США доживать свой век. Что ж тут постыдного и унизительного?