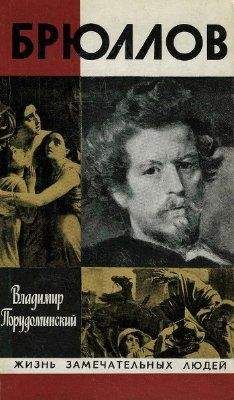Соплеменник Монферрана и тоже придворный архитектор императора Александра, господин Антуан Модюи подал президенту Академии художеств записку столь серьезного содержания, что Оленин счел за благо, не откладывая, довести ее до сведения государя. Модюи утверждал, что проект Монферрана таит роковые ошибки: прежние и новые части строения связаны неправильно, конструкции неоднородны, способы кладки фундамента и забивки свай неодинаковы, — здание выйдет непрочно, если вообще сумеет стоять. Модюи приводил безнравственные слова Монферрана: «Какое мне дело, что станет с сооружением через сто лет, если меня не будет на свете». Александр Первый приказал создать комитет под председательством Оленина для рассмотрения записки. В комитет вошли зодчие братья Михайловы, 1-й и 2-й, Стасов, Росси. Записку разбирали по пунктам: один день Модюи чертежами и цифрами подкреплял обвинение, назавтра Монферран являлся оправдываться. Вместе французов не приглашали, чтобы избежать личностей и возможно даже рукопашной. Закончив разбор дела и произведя осмотр на месте, комитет признал невозможным произвести перестройку Исаакиевского собора по проекту архитектора Монферрана. Монферран писал царю, что за свой проект отвечает головой, что причина всех интриг — зависть соперников; к письму он приложил историческую заметку о страшной роли завистников в жизни великих зодчих. Государь позвал к себе Оленина и приказал русским архитекторам исправить проект, особое внимание опять-таки велено было уделить сохранению старых фундаментов. Александр Павлович был упрям. 15 февраля 1822 года все работы по строительству Исаакиевского собора были приостановлены.
Весной 1822 года Петр Андреевич Кикин пригласил Карла в собрание Общества поощрения художников. Здесь ему было объявлено, что общество решило отправить его на свой счет в чужие края для усовершенствования в искусстве. Карл один ехать отказался и просил послать вместе с ним брата Александра. Объяснил с откровенностью: «Из меня, быть может, ничего не выйдет, а из брата Александра непременно выйдет человек». Для изданного обществом «Собрания видов Санкт-Петербурга и окрестностей» Александр исполнил порядочные литографии, изображающие Сенную площадь и гулянье на островах. Общество, поразмыслив, согласилось командировать за границу обоих братьев, назначив им на разные издержки ежегодно по пятьсот червонцев.
Петр Андреевич, хотя и на даче, сидит в кресле прямо, по-военному, в строгом черном фраке, с красной анненской лентой через плечо. Усталый, задумчивый человек на портрете, поставленном на стуле за его спиною, как две капли похож на Кикина и вместе кажется — и не он вовсе. Лицо Петра Андреевича строго, голос тверд, в руке папка: заглядывая в нее, он читает братьям Брюлло утвержденный государем маршрут их заграничного путешествия: Берлин, Дрезден, Мюнхен, оттуда в Италию. Предложенный обществом Париж государь исключил, не желая подвергать опасным испытаниям нравственность и дарование молодых художников.
Карл устроился в кресле напротив Петра Андреевича, рядом Александр слушает стоя. Кикин, закрыв папку, рассказывает о мятежах и беспорядках, коими кишит Европа. В Италии также неспокойно; тайные общества сокрылись в тень, однако не дремлют, — вон в газете пишут, что некто Чивилини застрелил сына своего старинного друга за то лишь, что юноша оставил секту карбонариев, в Палермо народ дерется с австрийскими солдатами, известный стихотворец лорд Байрон, живущий недалеко от Павии, про которого говорят, будто тоже связан с крамольными сектами, поспорил с каким-то офицером, слуга лорда убил офицера ударом ножа и скрылся, полиция посадила Байрона в тюрьму.
За отворенным окном шумит сверкающая листва дерев, птицы перелетные громче кричат — начался август. Карл вдруг встает, подходит к укрепленному на мольберте портрету Марии Ардальоновны, почти законченному, берет в руки палитру, кисть.
Петр Андреевич считает долгом предупредить пенсионеров о строгом надзоре за их поведением: ежели в их поступках или даже в словах явится малейшая неблагонамеренность, общество тотчас приостановит помощь.
Карл помешал кистью на палитре, взял немного белого и осторожно тронул кружева на портрете.
Дилижанс запряжен четверней в ряд. Трех лошадей поставили гнедых, левую пристяжную — белую. Крытый кузов (три окна по каждую сторону) высится на больших, в человеческий рост, красных колесах. Из окна дилижанса смотришь как с борта корабля — провожающие толпятся внизу и кажутся даже сокращенными в росте. Стоит внизу отец, Павел Иванович Брюллов, в легком черном плаще, черную шляпу держит в руке, волосы у отца совсем седые. Стоит рядом старший брат Федор, в таком же плаще, с такою же шляпой в руке: семь лет назад вместе с первой золотой медалью выслужил и Федор заграничную командировку, однако по европейским политическим обстоятельствам отпущен не был, теперь Федору не до путешествий — пишет образа, работы его в цене, заказы имеет хорошие. Федор улыбается, машет рукой, но глаза у него грустные. Карлу жалко Федора; он показывает ему из окна четыре пальца и пренебрежительно машет рукой — четыре года промчатся быстро. (Человек предполагает… Четыре года обернутся для Карла четырнадцатью, и откуда ему знать, что в день отъезда в последний раз видит он отца, мать, меньших братьев, Ивана и Павла.) Кучер в синем долгополом армяке влез на высокие козлы, взялся за вожжи. Проводник с медным рожком в руке захлопнул сзади дверцу, проворно вскочил на висячую ступеньку и устроился снаружи. Дилижанс качнулся, как отчаливший корабль на первой волне. Александр, прижимая обе ладони к губам, посылал воздушные поцелуи. Карл прижался лбом к стеклу — отец стоял посреди площади, расставив крепкие ноги, ветер раздувал черный плащ, лохматил серебряные волосы. («Отец во всю жизнь поцеловал меня только один раз, когда я садился в дилижанс, чтобы ехать за границу», — скажет Карл Брюллов на закате дней.)
У заставы молодой офицер просил всех пассажиров выйти из экипажа и предъявить паспорта.
Перед отъездом по просьбе общества, ставившего целью поощрение художникам отечественным, братьям Брюлло, Александру и Карлу, были высочайше пожалованы в фамилию две буквы, которая приобрела отныне новое окончание: ВЪ. 16 августа 1822 года из Петербурга в чужие края отправились не обрусевшие Брюлло, а русские художники Брюлловы.
Глава первая
Босыми ногами ступает по облакам юная смуглолицая женщина с доверчивым лицом ребенка, несет на руках младенца с лицом, исполненным мысли и прозрения. В Дрездене перед Рафаэлевым творением пробует Карл рисовать «Сикстинскую мадонну» и впервые, кажется, чувствует изменившую ему верность руки. Он раздраженно комкает лист с начатым рисунком, берет другой, щурится, примериваясь, еще раз внутренне проверяя точность и цепкость глаза, уравновешивает дыхание, как перед выстрелом, чтоб не дрогнула рука, мягким красивым движением проводит линию и, еще не отняв карандаш от бумаги, — рукой, глазом, всем существом своим ощущает: не то. Испуг толкает его в сердце, он кладет папку на пол рядом со стулом, на котором сидит, один в пустом зале уже закрытой на зиму галереи, долго смотрит на рисунок, на эту единственную проведенную им линию. Она взята правильно — в этом он может поклясться, все в ней, до самой малости, точь-в-точь как на оригинале, но рядом с Рафаэлем как она безжизненна! Он поднимает папку, кладет ее на колени и, подавляя страх и злость, быстро, уже почти не взглядывая на полотно, наперекор себе набрасывает контур. Но линии Рафаэля, перенесенные на его рисунок, вянут, словно сорванные цветы. Он комкает и этот лист и не начинает нового. Он сидит неподвижно с папкой на коленях и, не в силах оторваться, смотрит на картину. Он смотрит в детские глаза матери, смотрит во всезнающие глаза младенца, раздражение в его душе стихает, сердце бьется спокойно и уверенно, ум не замутнен ни злостью, ни страхом, ни напряженным желанием. Все в нем расправляется — душа, сердце, ум распахнуты навстречу неведомой прежде мудрости, будто земля — дождю. Он думает о непостижимости Рафаэля. Художники в величайших своих творениях подобны природе. Человек, дерево, плод не есть совокупность твердых и жидких веществ, в определенном порядке соединенных. Черты лица этой женщины и линии ее тела, ее глаза, руки, ноги выражают сразу столь много и в таком слиянии выражают, что дерзко намерение повторить их, разымая создание Рафаэля на линии и пятна. Эта женщина создана Рафаэлем из него самого, как Ева из ребра Адама: можно похоже перерисовать ее или написать красками, можно все глубже постигать, никогда, однако, не постигнув до конца, можно оживить копию собственным чувством и замыслом, но невозможно создать эту женщину еще раз, как невозможно двум матерям родить дважды одного и того же ребенка.