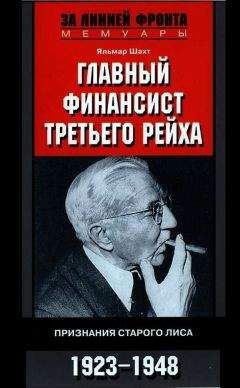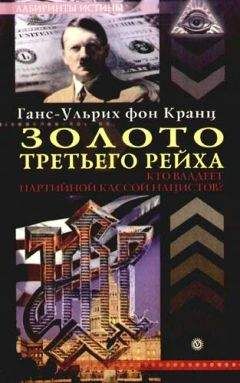Но мыслей о войне не было…
Тем же летом я пустился в далекую велосипедную поездку в Ютландию и посетил сестру моей матери — ту самую, которая когда-то отказалась выйти замуж за дядю Видинга. Тетя Тони вышла замуж за датчанина по фамилии Эрстедт, государственного советника и городского главу. На обратном пути я проехал по всем тем местам, где жили и отражали набеги с Северного моря мои крестьянские предки Шахты.
Надо сказать, что это была не праздная прогулка. По пути я принял решение относительно своих планов на будущее. По возвращении в Киль попрощался с медициной, изучил список лекций и стал посещать курсы по общей истории литературы. Чтобы заняться делом в оставшиеся дни этого лета, я извлек письма, которые имел при себе с того времени, как был гостем деда во Фридрихштадте, — переписку между Геббелем и будущим врачом Шахтом.
Я просмотрел все эти бесценные бумаги и упорядочил их, написал соответствующий комментарий и послал в Magazin für Literature — в то время ведущее издание, — который вскоре опубликовал мою работу.
Подлинные письма Геббеля получили широкое распространение и нашли свое место в архиве Гете — Шиллера в Веймаре. Работа для журнала пробудила во мне энтузиазм. Разумеется, не приходилось ожидать, что я буду публиковать письма знаменитого немецкого поэта каждый день. Но я увлекся этой работой настолько, что на некоторое время погрузился в нее целиком.
В конце своего первого семестра я вернулся в Берлин и прослушал полный курс лекций по немецкой филологии.
В то же время я вступил в студенческое литературное общество — Литературно-академический союз. Пока общество не перессорилось, оно было очень интересным. Его членами были доктор Франц Ульштейн, а также Артур Дикс, будущий редактор National Zeitung.
Дикс воодушевил меня на следование еще одной стезе. Это случилось в мой третий семестр, когда я проживал в Мюнхене. Он предложил мне посещать лекции по политической экономии известного экономиста Луиджи Брентано. Я последовал совету и нашел лекции настолько увлекательными, что немедленно бросил немецкую филологию и посвятил себя исключительно политической экономии.
В то время на политическую экономию смотрели как на вспомогательную дисциплину. «Все глупцы и неудачники занимаются экономикой», — считали адвокаты, теологи, медики и филологи, исконные обитатели своей альма-матер, и они подразумевали под этим политическую экономию.
Из Мюнхена я уехал на один семестр в Лейпциг к профессору Карлу Бюхеру изучать журналистику — профессию, которая привлекала мое внимание некоторое время и о которой писал профессор Бюхер (бывший редактор Frankfurter Zeitung).
Сейчас в таком увлечении нет ничего необычного. Но в годы моей учебы газеты рассматривались еще как неизбежное зло, а журналист, по словам Бисмарка, как «человек, который не угадал свое призвание».
К сожалению, вскоре выяснилось, что Карл Бюхер придавал значение только тем студентам, которые хотели добиваться докторской степени и были готовы посвятить учебе под его руководством несколько семестров. Поскольку это не отвечало моим интересам, я вернулся в Берлин. Но я не порвал активные контакты с прессой из-за этого. За год до приезда в Лейпциг я уже испытывал сильное желание заняться журналистикой. Как делается газета? Что это за люди, которые день за днем добывают и препарируют информацию, заполняющую страницы утренних газет?
Во время моего второго семестра мне пришла в голову мысль, что надо быть идиотом, чтобы писать в газету, не владея практическими знаниями о том, как она создается. Я обсудил эту мысль с отцом, который проявил к ней большой интерес. В конце концов, он назвал меня по имени одного из самых знаменитых газетчиков Соединенных Штатов. Да и сам был журналистом.
— Что ты имеешь в виду, когда говоришь о практической работе в газете? — спросил отец.
— Хотелось бы поработать хотя бы несколько месяцев в редакции газеты, — ответил я.
Отец задумался.
— Я поговорю с доктором Лейпцигером, — сказал он. — Лейпцигер возглавляет газету Kleines Journal — понятно, что это не ведущее издание! Все-таки мы вели с ним совместное дело. Посмотрю, что можно сделать, если ты действительно хочешь работать в газете.
Это происходило в январе 1896 года, когда мне было только девятнадцать лет. По пути на работу на следующий день отец зашел к герру Лейпцигеру и сообщил ему о моем желании. Герр Лейпцигер, весьма уважавший отца, сказал, что я могу выходить на работу в редакцию 1 февраля в качестве «неоплачиваемого помощника».
— Скажи ему — в качестве неоплачиваемого помощника, — напомнил Лейпцигер. — Мы на студентов особого внимания не обращаем…
Глава 7
Неоплачиваемый помощник Kleines Journal
— Вы раньше что-нибудь писали? — поинтересовался глава отдела новостей герр Фюрстенхайм, когда я появился в редакции утром 1 февраля. Он говорил громким, саркастичным и несколько снисходительным голосом.
Меня словно обожгли крапивой. Писал ли я раньше что-нибудь — конечно, писал! Целые тома!
— Что именно? — коротко спросил Фюрстенхайм.
— Поэмы, — ответил я.
У меня были даже опубликованные поэмы — если быть точным, то одна. И чтобы напечатать эти вирши в Weiner Dichterheim, мне пришлось заплатить пять марок. Weiner Dichterheim существовал за счет поэтов, которые платили за публикацию своих стихов.
— Ах! Поэзия! — воскликнул Фюрстенхайм. Он пошарил в немаленькой кипе бумаг на столе, вытащил чистый листок бумаги и сказал: — Ступайте на строительство Видендаммского моста. Оно наполовину закончено. Напишите корреспонденцию в двенадцать строк — понимаете? Не больше.
Ничего не может быть проще, подумал я, взял листок и отправился к мосту.
Я мог написать тысячу строк об этом великолепном мосте. Мог описать чаек, любующихся собственным отражением на мутной поверхности Шпрее, румяных детишек, стоящих на берегу и глазеющих на строителей моста, самих строителей с их инструментами. Но ведь герр Фюрстенхайм не просил ни двух тысяч, ни даже двух сотен строк — нет, ему нужны были всего двенадцать строк.
Поспешил в редакцию и стал думать, как написать эти двенадцать строк. Вычеркивал одно предложение здесь, другое — там. Вдруг в кабинет ворвался редактор и громко спросил:
— Герр Шахт, где ваши двенадцать строк? Неужели вы полагаете, что берлинцы будут дожидаться газеты до завтрашнего утра только потому, что вы здесь сидите и пишете стихи?
Он заметил исписанные листы бумаги и выдернул их из-под моей руки.
— Погодите, стойте! — воскликнул я. — Моя корреспонденция еще не закончена.