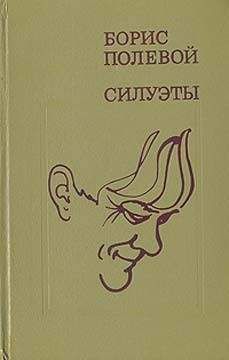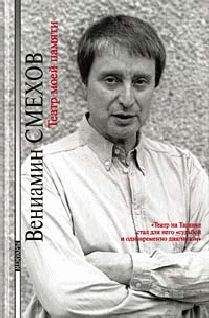Очень поздно, а точнее, очень рано, когда солнце, выкатившееся из-за стрельчатой колокольни собора святого Витта, осветило крыши города, было закончено обсуждение кризисной ситуации. В числе прочего решено было послать в помощь британским друзьям для организации, так сказать, «воздушного моста» Лондон — Варшава двух советских делегатов, фамилии которых начинались на счастливую букву, — Всеволода Илларионовича Пудовкина и меня.
Признаюсь, от поручения этого я в восторг не пришел. Ситуация была острая. Мы уже получили известие, что великий физик Фредерик Жолио-Кюри, которому как французу для въезда в Англию и визы-то не требовалось, уже задержан агентами секретной службы и ему отказано в британском гостеприимстве. Было над чем поразмыслить. Я повесил нос. Зато мой товарищ по намечавшемуся путешествию был в полном восторге.
— Это же страшно интересно! — воскликнул он, вдохновенно сверкая своими умными выпуклыми глазами. — До сих пор мы только слышали «Скотланд-ярд», «Интеллидженс сервис», а тут… нет-нет, мой юный друг, тут мы увидим глазами, что это такое. Чудесно, прелестно!
— Но в этой игре могут быть и проигрыши.
— Чепуха. Все беру на себя. В этой операции я, как и при первом нашем знакомстве, режиссер-постановщик, ну, а вы по-прежнему статист. Да, да, да! И увидите, какой великолепный приключенческий фильм мы с вами поставим на этом материале, мой юный друг, — не хуже «Потомка Чингис-хана»…
«Юный друг» — это, очевидно, как и «чудесно и прелестно», было в те дни его присловием, ибо разница в годах у нас была всего лет десять — пятнадцать. Что же касается роли статиста, то и для этого было свое объяснение. Кто же не знал у нас, да и во всем мире этого замечательного художника. Его «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингис-хана» к тому времени обошли уже все мировые экраны. Но у меня с этим славным художником, с которым мы как следует познакомились только в самолете по пути в Прагу, были давние и особые отношения.
Ряд сцен фильма «Мать», и в том числе великолепно отснятые эпизоды разгона казаками рабочей демонстрации, снимались у нас в Твери. Я был тогда студентом. Жили мы весьма скудно. На призыв проворного администратора картины, предложившего нам в этой сцене изображать избиваемую толпу за три рубля в день, мы горячо откликнулись. Профком даже договорился с дирекцией, что на дни съемок нас будут освобождать от занятий, взяв с нас слово, что это не отразится на академических успехах.
И вот настала волшебная пора. С раннего утра, облачившись в подходящую одежду и соответственно подмалевавшись, мы, студенты, выходили на весеннюю улицу. Слушали режиссерские наставления, старались их выполнять. Гонимые казачьей конницей, которую изображали знакомые нам ребята из кавалерийской школы имени Коминтерна, мы бежали к волжскому мосту, и те из нас, кому хотелось получить не трешку, а пятерку, с ходу плюхались в грязь под ноги кавалерийских коней и пластались на весенней, покрытой жидким навозом мостовой.
Пудовкин стоял на кухонном столе и командовал в жестяную трубу:
— Начали!.. Пошли!.. К мосту, к мосту, какого черта! Падайте, пластайтесь по земле, падайте!
Не помню точно, по каким именно обстоятельствам, кажется, из-за того, что в те дни студенты коллективно конструировали радиоприемник, мне нужна была не трешка, а именно пятерка. Я самоотверженно бросался в навозную жижу, слушая цокот копыт перескакивавших через меня коней. Человек с жестяной трубой в фуражке, перевернутой козырьком назад, заметил эту мою старательность. В час выдачи мзды он оказался рядом с нами и, когда мы получили синенькие пятерки размером в конфетную обертку, тряс нам руки:
— Чудесно, прелестно. Благодарю от имени искусства. Спасибо, юные друзья…
Очень он мне тогда запомнился, большеглазый, с худым аскетическим лицом, с этим своим «чудесно и прелестно» и «юные друзья». Оказавшись его соседом по креслу в самолете, я напомнил ему ту давнюю весну и свои самоотверженные броски в навозную жижу. Это его нисколько не удивило. Он даже сделал вид, что узнал меня. Не выходя из своей обычной возбужденно-трагической манеры, он с хорошо разыгранным удивлением воскликнул:
— Так это были вы?.. Как вы бросались в грязь! Чудесно, прелестно! У вас здорово получалось. Может быть, в вас погиб большой актер. А? — И при этом выпуклые глаза его весело блестели…
И вот теперь, два с лишним десятка лет спустя, нам с ним лететь в Лондон с весьма щепетильным поручением, которое не казалось мне ни чудесным и ни прелестным.
В хмурый, слякотный день мы ходим по перрону пражского аэровокзала. Всеволод Пудовкин, Александр Фадеев и я. Ходим, нетерпеливо поглядывая на небо, ожидая, когда появится на нем авиалайнер британской компании «БЕА». Как всегда, за границей Фадеев одет с подчеркнутой элегантностью: отлично выглаженный плащ перехвачен поясом, широкая, на французский манер замятая шляпа. А в руках у него хозяйственная сумка, какие в Москве называют «авоськами». В сумке несколько свертков, обернутых бумагой со штампом фирменных продовольственных магазинов. Из пакета победно торчат аппетитно поджаристые роглики, из другого высовывает нос копченая колбаса. «Авоська» эта как-то особенно не монтируется с фадеевским обликом.
— …Английские друзья — великолепный народ, отличные организаторы. Их не надо учить и, спаси бог, поучать. Поучение не терпит ни одна нация, а английская в особенности. Вы просто офицеры связи. Помните пословицу: «Умный любит учиться, а дурак поучать», — говорит Фадеев, перекладывая «авоську» из одной руки в другую. — Ваша задача убедительно выступить на собрании делегатов, съехавшихся в Шеффилд, разоблачить нехитрую провокацию и убедить их лететь в Варшаву, ну и… Передайте английским друзьям эту «авоську». В ней, так сказать, путевки из Лондона в Польшу. Но… словом, постарайтесь, чтобы в нее не совали нос таможенники. Понимаете?
Что тут было не понять! Мне не раз доводилось бывать на Британских островах. С английской секретной службой я был знаком не только по полицейским романам. Пудовкин тоже жил в Англии, знал англичан, имел там много знакомых и друзей в кинематографическом мире. Но, в отличие от меня, он пришел от этого поручения в восторг: чудесно, прелестно.
— Саша, ты можешь положиться на моего юного друга и на меня.
Он взял из рук Фадеева «авоську» и, когда самолет прилетел, поднимался по трапу, легкомысленно размахивая ею. Заняли свои места, разделись. Отдавая учтивейшему стюарду пальто и шляпу, Пудовкин вместе с ними отдал ему и заветную «авоську».
— Всеволод Илларионович… — с ужасом прошептал я.