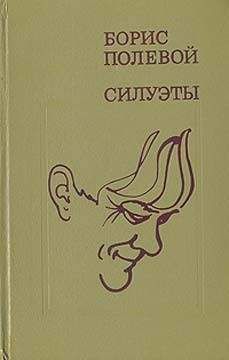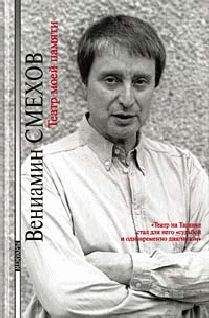На следующий день мы в Шеффилде. В большом зале заседаний Сити-Холла, или, по-нашему, Городского совета. Идет бурное заседание тех Сторонников мира, которым повезло так же, как и нам, советским делегатам, фамилии которых начинались на счастливую букву «п». Председательствуют попеременно виднейший британский ученый профессор Джон Д. Бернал и достопочтенный Хьюлетт Джонсон — настоятель знаменитого собора в Кентербери — Дин Кентерберийский, как почтительно зовут его англичане, — величественный старик с седыми волосами и юношеским румянцем на лице. В президиуме целый парад знаменитостей, европейских, азиатских, заокеанских: ученые, литераторы, профсоюзные вожаки, артисты. И в центре всей этой плеяды маленький, смуглый, быстрый Пабло Пикассо и худощавый, нервный Всеволод Пудовкин. Я так и не узнал, были ли они знакомы до этого или как-то быстро сблизились, понравились друг другу. Научились даже бойко объясняться на какой-то странной смеси английского, французского и русского языков.
Пабло Пикассо на трибуне. Это сенсация. Рой репортеров обступает его. Сверкают молнии блицев, жужжат киноаппараты.
Метр достал из кармана листок величиной в полстранички, бегло прочел текст речи и сунул его в карман. Толпа подхватывает его, несет на руках, и все поют по здешнему обычаю: «Он наш хороший парень, он наш хороший парень». Говорят, что этой песней встречают тут даже короля. Пудовкин среди тех, кто его несет, даже, как мне показалось, командует этой восторженной толпой.
Потом автобусы везут нас в гостиницу. Везут долго, что-то около часа. Пикассо и Пудовкин оказываются рядом. На той же смеси языков ведут оживленный разговор, который до прибытия в гостиницу не кончается и продолжается уже после ужина перед горящим камином. Я было скромно напомнил своему режиссеру, что, дескать, не пора ли на боковую, завтра рано вставать. Он сердито сверкнул выразительными своими глазами.
— Вы не знаете, что такое Пабло Пикассо! Это не человек, это явление. Нам чудовищно повезло — быть с ним рядом.
Пудовкин в ударе. Сегодня он хорошо выступил. Его горячо встретили. И с «воздушным мостом» Лондон — Варшава, кажется, дело начинает налаживаться.
— Гениальнейший субъект, — подытоживает он свой разговор с Пикассо. — Талант так и прет из каждой клетки… Как я завидую вам. Умираю от зависти. Как это вам повезло!
А повезло мне действительно здорово. После ужина я подарил художнику только что вышедшую в Париже «Повесть о настоящем человеке». Потом подал ему цветную открытку с его знаменитым голубем, изданную в Англии, и попросил поставить на ней автограф. Он брезгливо посмотрел на открытку, с отвращением разорвал ее: «Халтурщики! Так переврать цвета». Выхватил из кармана листок со своей речью, быстро, почти молниеносно нарисовал на ней великолепного турмана с мохнатыми ногами. Вывел дату: 12. II. 1950 год. Поставил свою всемирно известную подпись. Добавил печатными буквами по-русски: «Пикассо». С двумя «с». И пошутил:
— За семьдесят лет я ни разу не писал своих речей.
Это первая написанная. Вы будете единственным обладателем этого литературного памятника.
Мохнатый хохлатый турман был, как нам показалось, нарисован одной линией, одним точным движением пера.
— Как это вам удается?
И тут славный метр открыл для нас страницу своей биографии, которую мы не знали. Он рос в семье учителя рисования. Учителям в Испании живется нелегко. Жалованья едва хватало, чтобы скудно прокормить семью. И вот отец брал у торговца писчебумажными товарами заказы на разрисовку рождественских и пасхальных открыток. Обычно он набрасывал контуры, а маленького Пабло заставлял дорисовывать и раскрашивать. Чаще всего это были голуби, которых так любят за Пиренеями. Голуби всех пород. Мальчик почти механически повторял одни и те же рисунки.
— Я могу рисовать голубей с завязанными глазами, — сказал Пикассо и действительно мгновенно нарисовал пальцем на запотевшем стекле гостиницы какого-то хохлатого голубя уже другой породы.
Так мы узнали, как родился тот самый белый голубь, который в те дни уже облетел все пять тревожных континентов земли, стал символом нашего Движения.
— Вам нравится его творчество? — спросил я Пудовкина.
— Как вам сказать… Далеко не все. Но он великий мастер. Он ведь может рисовать, как сам Леонардо.
— А Герника?
— Герника — это здорово. Герника — это, так сказать, запечатленный кошмар. Но как бы он мог рисовать и сейчас, если бы работал, скажем, в манере своего голубого периода.
Свой последний день на Британских островах мы провели на вечеринке у профессора Джона Д. Бернала. Знаменитый физик, как оказалось, обитал в ту пору в мансарде своего института, помещавшейся на верхнем этаже ветхого шестиэтажного здания. Шляпы и пальто бросали прямо на какие-то физические машины, на модели кристаллов. В комнате со скошенным потолком, где мебели не хватило, сидели прямо на полу. Но это был расчудесный вечер. Он походил на студенческий междусобойчик: пели, танцевали, в каком-то эмалированном ведре варили терпкий глинтвейн, пили его из химической посуды, заедали крохотными сандвичами, которые тут же с помощью гостей сооружала очаровательная ассистентка профессора.
В финале этого во всех отношениях необыкновенного вечера Пикассо взял кусок лабораторного угля и, засучив рукава, начал рисовать прямо по штукатурке скошенной стены. Маленький, смуглый, длиннорукий, похожий на быструю обезьянку, он, казалось, забыл обо всех окружающих. И комната, которая только что, как казалось, готова была рассыпаться от веселого шума, наполнилась благоговейной тишиной.
И в тишине этой мы увидели, как на стене вырисовывался фас Бернала, затем стала появляться очаровательная головка его ассистентки, готовившей тут же свои микросандвичи. Затем Пикассо увенчал их обоих венками. Напоследок приделал им ангельские крылышки. Посмотрел. Поставил дату: 12. II. 50 года. Подписал, бросил уголь и многозначительно вытер руки о штаны.
Всем участникам вечеринки показалось, что они присутствовали при каком-то удивительном волшебстве. Волшебство искусства. И хотя рисунок был шуточный, сам художник не скрывал радости и от своей удачи, и от того впечатления, какое эта его удача произвела на присутствующих.
На следующий день, провожаемые большою шумною толпой, мы заняли свое купе в лондонском экспрессе. Мы на диване рядом с Пудовкиным, Пабло Пикассо напротив со своей женой — молодой, стройной женщиной, с холодным, точно мраморным, античным профилем, таким всем теперь знакомым по множеству вариаций рисунка женщины-голубки.