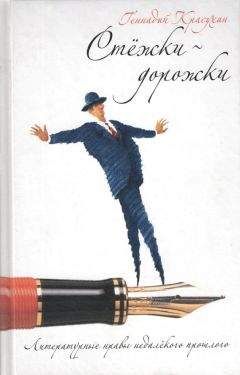И тут слово попросил Буртин. Выступить ему дали, но потом об этом очень жалели. Потому что, поддержав, как водится, обоих предыдущих ораторов, он предложил ещё одну кандидатуру – поэта и главного редактора журнала «Новый мир» Александра Трифоновича Твардовского.
– Но Твардовский, – вскочил сидевший за столом президиума первый секретарь райкома, – кажется, уже выдвинут кандидатом в депутаты от другого округа?
– А член политбюро, к которому мы обратимся, – резонно ответил Юра, – выдвинут кандидатом в депутаты во многих округах.
Нет, предложение Буртина не прошло. Больше того, это предложение было названо провокационным уже на другом собрании – в школе, где коммунисты признали, что их коллега недостоин высокого звания члена партии. Бюро райкома с этим было полностью согласно: билет кандидата в члены партии у Буртина отобрали.
– На что ты надеялся, нарушая правила игры? – спросил я у него.
Юра взглянул на меня смеющимися из-под рыжих бровей глазами:
– Я хотел показать, что эти правила не признаю и по ним не играю.
Учителем его в школе оставили, но отношение к нему переменилось. Начальство долго не соглашалось дать ему характеристику для поступления в аспирантуру Института мировой литературы. Но в конце концов дало – сухую и кислую.
Тем не менее в аспирантуру его зачислили. Он пришёл в неё с фактически готовой диссертацией о поэзии Твардовского.
Но защитить ему её не позволили. Точнее, о защите и речи не шло, когда отчисляли его из аспирантуры.
Он снова нарушил правила игры. Не только не осудил, как все в институте, арестованных Синявского и Даниэля, но выступил на общем собрании в их защиту.
Вот какой человек работал со мной в газете, вызывая почти ежедневное раздражение Чаковского и удерживаясь на своём месте благодаря тайной симпатии к нему Сырокомского.
А Жигулин продержался в газете очень недолго.
Со студенческой скамьи Воронежского лесного института его отправили на Колыму как антисоветчика за создание вместе с несколькими единомышленниками некоего кружка «правильных» коммунистов, который они именовали коммунистической партией молодёжи. Кружок был довольно невинным: они собирались для чтения Маркса, Ленина, Сталина, но мотавшие им сроки следователи быстро смекнули, какую материальную выгоду можно извлечь из дела о создании новой «партии» – тягчайшему по тем временам преступлению. И извлекли – одни получили повышение, других даже перевели из Воронежа в Москву. А Жигулин с друзьями получили по 25 лет лагерей.
Лагерь Толю сломал. Выйдя на свободу, он начал пить много и постоянно.
Он появлялся в нашей комнате в длинном плаще с глубокими карманами, доставал из кармана бутылку.
– Будешь, – спрашивал он меня, срывая язычок с пробкой.
– Ну что ты, Толя, – говорил я ему. – Ведь сейчас только одиннадцатый час.
Это на него не действовало. Он наливал себе стакан, опрокидывал водку в рот и садился работать, то есть обзванивать знакомых.
Особенно часто он звонил поэту Игорю Жданову, автору очень неплохой повести, напечатанной в «Молодой гвардии». Дозвонившись, он договаривался о встрече в Доме литераторов и, допив бутылку, исчезал.
Конечно, так бывало не каждый день. Иначе он бы и недели не проработал в газете. Но бывало довольно часто. А потом стало всё более учащаться.
Кр оме Игоря Жданова был ещё один постоянный собутыльник Жигулина – поэт Владимир Павлинов. Мне он хмуро кивал, наверняка не прощая моей критики его стихотворений. Некогда он и ещё три автора журнала «Юность» составили общую книгу стихов «Общежитие», и я писал о ней. Стихи Павлинова я оценил как наименее удачные.
Павлинов обладал огромной физической силой и мог пить, долго не пьянея. К Жигулину он относился с нежностью.
Именно Павлинову и выпало наказать жигулинского обидчика. Даже не обидчика, а клеветника. Антисемит и сталинист, поэт Василий Фёдоров, прославившийся строками: «Сердца, не занятые нами, немедленно займёт наш враг», пустил сплетню, что Жигулин сидел не по антисоветской, а по уголовной статье: был якобы заурядным карманником. Этого Толя снести не мог.
Фёдоров тоже нередко запивал, и его в запое тоже влекло в ресторан ЦДЛ, где он сидел перед рюмкой и угрюмыми, ненавидящими глазами обводил зал. Вот он увидел Жигулина, пьющего с Павлиновым, и в глазах его (Фёдорова) зажглось ещё больше ненависти.
– У, сволочь! – тихо прорычал Толя.
– А ты подойди к нему, – посоветовал Павлинов, – и скажи: «Что смотришь, харя фашистская!»
Жигулин встал.
Фёдоров не успел ему ответить, потому что, отодвинув Толю со словами: «Это тебе за моего друга, падла!», Павлинов ударил Фёдорова в лицо с такой силой, что тот покатился по залу и недвижно затих у чьих-то ног.
На Павлинове повисло несколько официантов, он их стряхнул, они снова пытались повиснуть на нём. Вызвали милицию. Вызвали «скорую». Фёдорова увезли. Павлинова и Жигулина увели и почти ночь продержали за решёткой.
А наутро о драке узнали в газете.
Поговорить с Жигулиным поручили заместителю главного редактора Артуру Сергеевичу Тертеряну, мастеру улаживания всяческих конфликтов.
– Да, он сволочь, – согласился с Толиной оценкой Фёдорова Артур Сергеевич, узнав, что послужило поводом для избиения. – Но это – очень опасная, очень злобная и мстительная сволочь. Ведь он будет добиваться от Маковского вашего увольнения. И Александру Борисовичу ничего не останется, как вас уволить. Вам это надо? Позвоните ему и извинитесь. Тем более что били-то его не вы.
Толя пришёл от Тертеряна хмурым.
– Будешь? – спросил он меня, доставая из кармана бутылку. Выпил стакан и задумался. Выпил ещё. А потом стал резко листать справочник союза писателей.
– Василия Дмитрича можно, – сладким голосом говорил он в трубку. – И не встаёт, – озаботился он. – Скажите, что это Толя Жигулин. – Он прикрыл трубку рукой и сказал мне. – Пошла сообщать, стерва! Посмотрим, как он не встаёт.
– Вася! – закричал он. – Это Толя Жигулин. Ну, как ты там, родной? Я слышал, что ты на меня сердишься! Прости меня, дорогой мой Вася! Прости за то, что это не я тебе вмазал по поганой морде, сволочь ты вертухайская, прости, что я не придушил тебя – гада, мерзавца, фашиста…
– Бросил трубку, – удовлетворённо сказал он мне. И допил водку.
На следующий день его попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию.
* * *
Донимали меня графоманы – «графы», как называл их мой недолгий коллега по «Литературке» Жигулин. Хороших поэтов всегда бывает мало, изделия их штучные, к тому же далеко не все их стихи проскочат через начальственное сито, а эти шли ко мне косяком. Пропускной системы, как в «Правде» или в «Известиях», в редакции не было, пройти к нам с улицы мог кто угодно, и в результате на моём столе вырастали монбланы из толстых папок со стихами, которые не то что прочитать – перелистать – заняло бы уйму времени.