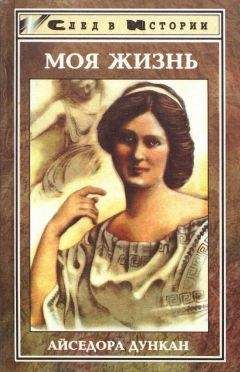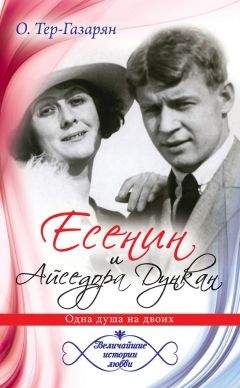Нянюшка следовала за мной по пятам. На нее бросилось шесть клерков и удерживали ее в тисках, пока не прибыли врачи. Результат их консультаций привел меня в такое замешательство, что я тут же решила телеграфировать матери, чтобы она приехала из Парижа, что она и сделала. Я рассказала ей все подробности обстановки, в которой мне приходилось жить, и мы с матерью решили покинуть Вену.
Случилось так, что, находясь в Вене с Луа Фуллер, я однажды вечером танцевала в Доме искусств перед артистами. Каждый из них пришел с букетом красных роз, и, когда я танцевала «Вакханалию», меня всю забросали этими розами. Среди публики присутствовал венгерский импресарио Александр Гросс. Он подошел ко мне и сказал:
— Если вы пожелаете создать себе будущее, отыщите меня в Будапеште.
Вот почему в ту минуту, когда я, до смерти напуганная окружающей меня обстановкой, стремилась вырваться с матерью из Вены, я, естественно, вспомнила о предложении м-ра Гросса и направилась в Будапешт в надежде на лучшее будущее. Он предложил мне заключить контракт на тридцать вечеров танцев, одной, в театре «Урания».
Это был первый контракт на танцы перед публикой в театре, и я заколебалась.
— Мои танцы, — пыталась я объяснить, — предназначены для избранных артистов, скульпторов, художников, музыкантов, но не для обыкновенной публики.
Но Александр Гросс возразил: артисты самые требовательные зрители, и если им нравятся мои танцы, то публике они понравятся во сто крат больше.
Меня убедили подписать контракт, и пророчество Александра Гросса сбылось. Первый же вечер в театре «Урания» сопровождался неописуемым триумфом. В течение тридцати вечеров я танцевала в Будапеште при аншлаговых сборах.
О, Будапешт! Стоял апрель месяц. Была весна. Однажды вечером, вскоре после первого представления, Александр Гросс пригласил нас поужинать в ресторане, где играли цыганскую музыку. О, цыганская музыка! Она оказалась первым призывом к пробуждению моих юных чувств. Помню, спустя годы я беседовала с Джоном Венемекером. Мы находились в отделе граммофонов его магазина, и он обратил мое внимание на дивную музыку, которую воспроизводили его механизмы. Я сказала ему:
— Из всех этих прекрасно сконструированных произведений искусных изобретателей ни одно не может заменить цыганский напев простого венгерского крестьянина, играющего и поющего на пыльных дорогах Венгрии. Один венгерский цыган стоит всех граммофонов мира.
Прекрасный город Будапешт в эту пору был изумительно украшен цветами. За рекой на холмах в каждом саду цвела сирень. А вечерами бурная венгерская публика бешено мне аплодировала, бросая шапки на сцену. Как-то во время одного из выступлений я, вспомнив о впечатлении и настроении, возникшем накануне утром, когда я наблюдала за быстро скользящими, подернутыми рябью водами Дуная, написала записку дирижеру оркестра и в конце представления сымпровизировала «Голубой Дунай» Штрауса. Эффект был сродни электрическому заряду. Публика вскочила на ноги, охваченная порывом восторга, и мне пришлось многократно повторять вальс, прежде чем зрители перестали походить на толпу сумасшедших.
В этот вечер среди тех, кто громко вызывал меня на бис, находился молодой венгр, которому суждено было превратить целомудренную нимфу, какой я была, в вакханку. Все способствовало этому. Весна, нежные лунные ночи, благоухание, носившееся в воздухе, отяжелевшем от запаха сирени. Необузданный энтузиазм зрителей и первые ужины в обществе совершенно безмятежных людей: музыка цыган, венгерский гуляш и крепкие венгерские вина — в самом деле, впервые в своей жизни я была сыта и возбуждена изобилием пищи, — все приводило меня к новому сознанию, что мое тело есть еще и нечто иное, нежели только инструмент для выражения музыки.
Как-то днем в дружеской компании за стаканом токайского я столкнулась взглядом с большими черными глазами, сверкавшими таким безграничным поклонением и такой венгерской страстью, что в одном взгляде таился весь смысл весны в Будапеште. Человек, который смотрел на меня, был высок, великолепно сложен, его голову покрывали черные волосы — он вполне мог бы позировать в качестве Давида для самого Микеланджело.
С первого же взгляда мы уже были в объятиях друг друга, и не было силы на земле, которая могла бы этому помешать.
Он передал мне небольшой кусок бумаги, на котором было написано: «Ложа в Королевский национальный театр». В этот вечер мы с матерью пошли, чтобы увидать его в роли Ромео. Он тогда уже был прекрасным актером, а со временем стал величайшим актером Венгрии. Исполнение роли Ромео завершило его победу надо мной. После спектакля я зашла к нему в уборную. Вся компания следила за мной с улыбками любопытства. Казалось, они все уже знали и были рады. Лишь одна из актрис вовсе не казалась довольной. Он проводил мою мать и меня в гостиницу, где мы перекусили, ведь актеры никогда не обедают перед спектаклем.
Затем, когда мать решила, что я сплю, я вернулась и встретилась со своим Ромео в гостиной нашего помещения, отделенной от спальни длинным коридором. Там он продекламировал передо мной, сцену за сценой, всю роль Ромео, пока рассвет не озарил окно.
Я смотрела и слушала с упоением. Время от времени я даже отваживалась подавать ему реплику или делать жест, а в сцене перед монахом мы оба преклонили колени и поклялись в верности до гроба.
О молодость, весна, Будапешт и Ромео! Когда я вспоминаю вас, мне кажется, что все произошло недавно — прошлой ночью.
Однажды вечером, после окончания наших спектаклей, мы зашли в гостиную без ведома матери, полагавшей, что я мирно сплю. Сначала Ромео довольствовался чтением своей роли и беседой о своем искусстве, театре, и я чувствовала себя вполне счастливой, слушая его, но постепенно заметила, как он волнуется, временами казалось, что он совершенно утрачивал дар речи.
Наконец, потеряв всякое самообладание, он внес меня в комнату. В испуге и в то же время в упоении я поняла, что все свершилось. Признаюсь, моим первым впечатлением был ужасный испуг.
Утром, на рассвете, мы вышли из гостиницы и, наняв запоздавшего извозчика, поехали на много миль прочь в деревню; остановились в лачуге крестьянина, в которой его жена предоставила нам комнату со старомодной кроватью и балдахином. Весь этот день мы оставались в деревне. Ромео несколько раз успокаивал меня и осушал мои слезы, когда я начинала плакать.
Боюсь, что в тот вечер я показала публике очень слабое исполнение, так как чувствовала себя очень несчастной. Однако когда по окончании его я встретилась в гостиной с Ромео, он был в состоянии такой радости и гордости, что я была вознаграждена за все мои страдания.