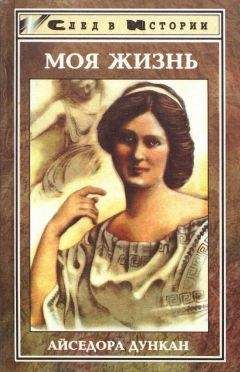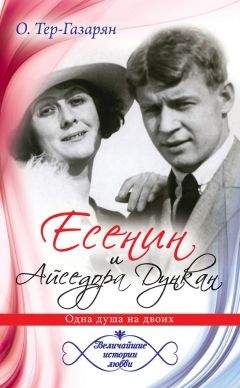У Ромео был прекрасный голос, и он пел мне песни своей страны и цыганские песни, объясняя их смысл. Однажды вечером, когда Александр Гросс устроил мой парадный спектакль в Будапештском оперном театре, у меня возникла мысль после программы из музыки Глюка вывести на сцену простой венгерский оркестр из цыган и протанцевать под цыганские песни. Одна из них звучала, как песня любви, мне запомнились ее слова:
В мире есть молодая девушка,
Милый голубь мой.
Любит, видно, меня господь,
Если он дал мне ее.
Неясный мотив, полный страсти, желания, слез, преклонения. Я танцевала с таким воодушевлением, что вызвала слезы у многочисленной публики, а закончила маршем Раковского, который я протанцевала в красной тунике как революционный гимн героям Венгрии.
Парадный спектакль заключил сезон в Будапеште, и на следующий день мы с Ромео убежали на несколько дней в деревню, поселившись в крестьянской лачуге. Здесь мы впервые познали наслаждение спать всю ночь в объятиях друг друга, и я испытала непревзойденную радость, проснувшись на рассвете, увидеть, что мои волосы запутались в его черных душистых кудрях, и чувствовать вокруг своего тела его руки. После возвращения в Будапешт первым облаком, омрачившим наше блаженство, было сокрушение моей матери. Элизабет, которая вернулась из Нью-Йорка, считала, что я совершила преступление. Душевное беспокойство их обеих было настолько невыносимо, что я, дабы отвлечься, убедила их предпринять небольшую поездку по Тиролю.
Александр Гросс организовал мое турне по Венгрии. Я давала спектакли во многих городах, включая Зибенкирхен, где на меня произвел большое впечатление рассказ о семерых повешенных революционных генералах. На большом открытом поле за городом я сочинила марш в честь этих генералов на героическую и мрачную музыку Листа.
В течение всей поездки во всех маленьких венгерских городках публика встречала меня овациями. В каждом из них меня ожидала карета с белыми лошадьми в упряжке, наполненная белыми цветами. Под крики приветствий меня, одетую во все белое, провозили через весь город. Но, несмотря на восторги, которые вызывало мое искусство, и на лесть публики, я бесконечно страдала от тоски по Ромео. Я чувствовала, что отдала бы весь этот успех и даже свое искусство за одну минуту, вновь проведенную в его объятиях, я томилась в ожидании того дня, когда снова вернусь в Будапешт. Наконец этот день наступил. Ромео с пылкой радостью встретил меня на вокзале, но я заметила нем какую-то странную перемену, позже он рассказал мне, что репетирует роль Марка Антония и дебютирует в ней. Неужели же перемена роли так повлияла на его артистический, сильный темперамент? Не знаю, но ясно одно — первая наивная страсть и любовь Ромео изменились. Он говорил о нашей женитьбе, словно она являлась уже окончательно решенным делом, и даже повел меня смотреть квартиры, чтобы выбрать ту, в которой мы поселимся.
— Что станем мы делать, живя в Будапеште? — допытывалась я.
— Как, — ответил он, — у тебя каждый вечер будет ложа, из которой ты будешь смотреть на мою игру, а затем ты научишься подавать мне все мои реплики и помогать мне при разучивании.
Он прочел мне роль Марка Антония, — сейчас все его интересы сосредоточивались на римской черни, а я, его Джульетта, уже оставалась в стороне.
Однажды, во время долгой прогулки по деревне, сидя возле скирды сена, он наконец спросил меня, не думаю ли я, что поступлю правильнее, если продолжу свою карьеру, а его предоставлю самому себе. Это неточно его слова, но таков был их смысл. Я до сих пор помню скирду сена, расстилавшееся перед нами поле и холодный озноб, пронзивший мою грудь. В этот же день я подписала контракт с Александром Гроссом на Вену, Берлин и все города Германии.
Я видела дебют Ромео в роли Марка Антония. Последнее, что я запомнила, — ликование зрительного зала, а я сидела в ложе, глотая слезы, словно груды битого стекла. На следующий день я уехала в Вену. Ромео уже исчез. Я попрощалась с Марком Антонием, который казался настолько суровым и озабоченным, что путешествие из Будапешта в Вену было для меня самым горестным и печальным, какое я когда-либо испытала. Вся радость, казалось, внезапно покинула вселенную.
В Вене я заболела, и Александр Гросс поместил меня в клинику.
Я провела несколько недель в состоянии крайнего упадка и в ужасных страданиях. Приехал Ромео. Он даже устроился на койке в моей комнате, был нежен и внимателен, но однажды, проснувшись на рассвете и увидав лицо сиделки — закутанной в черное католической монахини, отделяющее меня от моего Ромео, спавшего на койке у противоположной стены, я услыхала погребальный звон над нашей любовью.
Выздоравливала я медленно, и Александр Гросс отвез меня на поправку во Франценсбад. Я была вялой и грустной, не проявляя интереса ни к прекрасной местности, ни к окружавшим меня добрым друзьям. Приехавшая жена Гросса ласково ухаживала за мной в течение бессонных ночей. Вероятно, на мое счастье, дорогие доктора и сиделки истощили счет в банке, и Гросс вынужден был организовать мои концерты во Франценсбаде, Мариенбаде и Карлсбаде.
Итак, я снова открыла свой чемодан и вытащила танцевальные туники. Помню, как разразилась слезами, целуя мою короткую красную тунику, в которой я танцевала все свои революционные танцы, и поклялась никогда больше не покидать искусства ради любви. К этому времени мое имя стало в стране магическим; вспоминаю, как однажды вечером, когда я обедала со своим директором и его женой, перед зеркальным окном ресторана сгрудилась такая толпа, что в конце концов, к отчаянию управляющего гостиницей, она разбила огромное окно.
Скорбь, муку и разочарование любви я перенесла в свое искусство. Я создала историю Ифигении, ее прощание с жизнью на алтаре смерти. Наконец, Александр Гросс подготовил все для моего выступления в Мюнхене, где я встретилась с матерью и Элизабет. Они были в восторге, увидав меня без Ромео, но нашли, что я переменилась и стала грустной.
В эти дни вся жизнь Мюнхена сосредоточивалась вокруг Дома искусств, где группа таких мастеров, как Карлбах, Лембах, Штук[38], и других собиралась каждый вечер, чтобы насытиться прекрасным мюнхенским пивом и потолковать о философии и искусстве. Гросс захотел устроить мой дебют в Доме искусств. Лембах и Карлбах были согласны; лишь Штук утверждал, что танцы не соответствуют храму искусства, подобному мюнхенскому Дому искусств. Я направилась к Штуку на дом, чтобы убедить его в достоинствах своего искусства. Сняв в его студии платье и надев тунику, я протанцевала перед ним, а затем четыре часа без перерыва беседовала с ним о возможностях танца как искусства. Позже он часто рассказывал своим друзьям, что никогда в своей жизни не был так удивлен. Он говорил, что чувствовал, будто внезапно явилась дриада Олимпа. Он дал свое согласие, и мой дебют в мюнхенском Доме искусств стал большим артистическим событием и сенсацией, каких город не видел уже много лет.