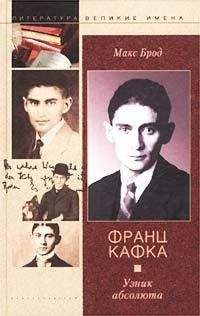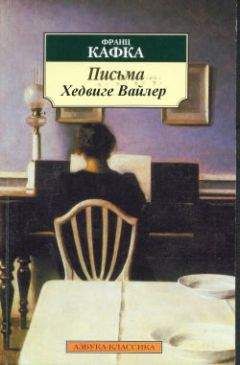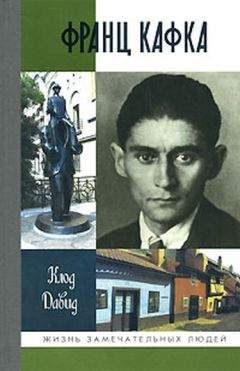Определенно, это все, что я мог постичь: ясное или даже приблизительное понимание каждого слова, но когда я сидел за столом и пытался изложить свои мысли на бумаге, слова в своих подлинных значениях выглядели сухими, капризными, жесткими, непонятными всему миру, робкими, и, кроме всего прочего, неполными, хотя я ни на йоту не отступал от своей первоначальной концепции. Объяснение кроется в том, что я правильно постигаю вещи только тогда, когда не привязан к бумаге, в минуты вдохновения, которых я боюсь больше, чем жажду, а также в том, что реальность настолько ярка, что я отшатываюсь от нее, но она слепо следует за мной и выхватывает вещи из потока горстями, поэтому все, чего я могу добиться, когда пытаюсь отразить эту реальность в образах, – это сравнить ее с блеском, в котором она живет, так как не способен создать в воображении эту яркую действительность, именно поэтому она так плоха и тревожна, потому что лишь напрасно всех соблазняет.
«12/28/1911. Как ужасно для меня состояние дел на фабрике! Почему я не протестовал, когда мне навязали эти обязанности? Конечно, никто не заставляет меня этим заниматься, но отец донимает меня упреками, а К. – своим молчанием; кроме того, меня мучает чувство вины. Я ничего не смыслю в делах фабрики, и этим утром, будучи там, я стоял беспомощный, словно высеченный школьник. Я уверен, что никогда не смогу вникнуть во все тонкости работы фабрики. Но даже если я смогу, преодолев все эти кошмарные трудности, в чем-либо разобраться, какой результат это принесет? Я не смею найти практическое применение этим знаниям, я могу лишь делать то, что более-менее подойдет моему хозяину[16], руководить же я не в состоянии. Из-за этой пустой траты времени и энергии я не смогу использовать для себя даже несколько часов после полудня, что приведет лишь к полному разрушению моего существования, которое становится все более и более ограничено».
«6/21/1912. Какой кошмар у меня в голове! Но как я могу отключиться, не заглушив внутренний голос? В тысячу раз лучше избавиться от него, чем держать внутри или уничтожить во мне».
«Какой кошмар у меня в голове!» В дневнике множество планов, набросков, и лишь малая часть из них доведена до конца. Моцарт сопротивлялся и восставал против своего отца. Кафка молчал. Но есть его письмо, написанное мне, в котором он говорил о том, как тяготила его каждодневная работа. Оно – передо мной, и я считаю, что не отношения Франца с отцом медленно и все глубже затягивали его в мир печали, что в конечном итоге привело его к болезни и смерти. Чрезмерное чувство связи с отцом держало его в крепких тисках служебных обязанностей – и это еще более усугубляло его несчастье. Но само несчастье состояло в том, что богато одаренный человек, с тонко развитым чувством воображения, в то время, когда разворачивались его молодые силы, был вынужден работать изо дня в день до изнеможения, выполняя неинтересную, не затрагивающую его душу работу. Вот что он изложил мне в этом письме:
«После того как я самозабвенно писал в ночь с воскресенья на понедельник, – я мог бы писать день и ночь, – и сегодня я уверен, что у меня хорошо получилось. Я должен прекратить мои занятия творчеством в силу особых обстоятельств. Г-н X., владелец фабрики, рано утром уехал по своим делам, что я, со своим рассеянным вниманием, едва заметил. Он будет в отлучке десять дней или даже две недели. На время его отсутствия фабрику будет контролировать лишь один управляющий, а любой хозяин (по крайней мере, такой беспокойный, как мой отец) не будет ни капли сомневаться в том, что сейчас же на фабрике начнутся кражи и беспорядки. Я сам в этом также уверен – правда, беспокоюсь не столько из-за потери денег, сколько из-за того, что могу чего-то не знать и поэтому буду глубоко переживать. Но все равно даже независимый наблюдатель – насколько я могу вообразить себе такую личность – не будет ни капли сомневаться в том, что страхи моего отца были напрасными, хотя сам я, в глубине души, не могу понять, почему немецкий управляющий, родом из Германии, чья компетентность в любом техническом и организационном вопросе достаточно высока, пусть даже и в отсутствие г-на X., не сможет поддерживать заведенный порядок на фабрике. Кроме всего прочего, мы все-таки порядочные люди, а не воры…
Когда некоторое время назад я пытался объяснить тебе, что ничто внешнее не может потревожить меня, когда я пишу (что было сказано, конечно, не для того, чтобы похвалить себя, а для того, чтобы утешить), я думал в это время о том, как моя мать, всхлипывая, каждый вечер уговаривала меня вновь заняться фабрикой и облегчить заботы отца и как отец говорил то же самое, но гораздо грубее или более уклончиво. Все эти всхлипывания и попреки лишь усугубляли глупость этих разговоров, потому что я не смог бы выполнять подобные обязанности даже в минуты моего наилучшего настроения.
Но этот вопрос не будет подниматься в течение следующих двух недель, потому что существует настоятельная необходимость в том, чтобы какая-нибудь пара глаз, пусть даже моих, присматривала за работой всей фабрики. Я не могу иметь ни малейшего возражения против этого требования, предъявляемого мне, потому что каждый думает, что я – главное лицо по снабжению фабрики всем необходимым. И хотя я и берусь руководить фабрикой лишь в своем воображении, а не на деле, я по меньшей мере понимаю, что нет никого, кроме меня, кто мог бы сделать это, потому что мои родители, чей приход на фабрику трудно себе представить, чрезвычайно заняты своим новым бизнесом (дело пошло лучше с открытием нового магазина), и сегодня, к примеру, мать не имеет времени даже забежать домой перекусить.
Поэтому, когда мать в очередной раз начала этот старый разговор сегодня вечером и, кроме обычного сетования по поводу того, что я сделаю своего отца больным и несчастным, привела еще одну причину – деловую поездку г-на X. и заброшенность фабрики на время его отъезда, – волна горечи (я не знаю, может быть, это была просто злость) захлестнула все мое существо, и я четко понял, что передо мной стоит выбор: либо сегодня вечером я жду, когда все улягутся спать, и выбрасываюсь из окна, либо хожу каждый день на фабрику и сижу в кабинете г-на X. все дни напролет в течение следующих двух недель. Первый вариант предоставит мне возможность снять с себя всю ответственность – как в отношении моих литературных трудов, так и по надзору за фабрикой. Второй вариант прервет мое писательское занятие без всякого сомнения – я не смогу просто так избавиться от четырнадцатидневной спячки, – но, если соберу силы для желания и надежды, возможно, сумею начать писать с того места, где остановился четырнадцать дней назад.