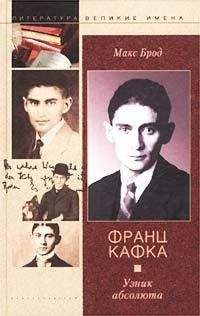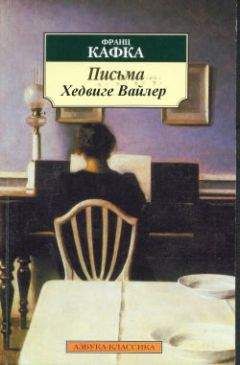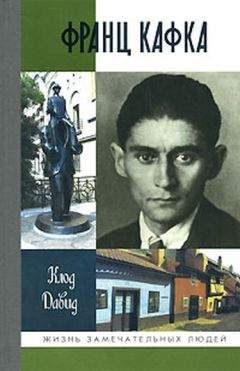Итак, я не выбросился из окна, а намерение сделать это письмо прощальным (причина написания его крылась совсем в другом) не было слишком велико. Я долго стоял перед окном, прижимая лицо к стеклу, и не один раз почувствовал, как зазвенит испуганная балка при моем падении. Но также я ощущал очень глубоко, что долгое пребывание в состоянии готовности разбить свое тело на кусочки на мостовой низведет меня на определенный уровень. Мне также казалось, что, оставшись в живых, я все равно прерву свою литературную работу – не иначе как смертью – и что в период между началом моей работы и ее возобновлением через четырнадцать дней я смогу, находясь на фабрике, в поле зрения своих довольных родителей, хоть как-то продвинуться и начать жить снова в сердце моего романа.
Мой дорогой Макс! Я рассказал тебе все, но не потому, что хотел услышать твой приговор (ведь ты не все знаешь, чтобы верно судить об этом), а потому, что я твердо решил выброситься из окна без какого-либо прощального письма, – каждый имеет право на чувство усталости перед своим концом. Сейчас я возвращаюсь в свою комнату как ее обитатель и хотел бы отпраздновать такое событие, написав тебе длинное письмо, знаменующее собой нашу новую встречу. И вот оно передо мной.
А теперь – последний поцелуй и пожелание спокойной ночи, потому что завтра я сделаю то, чего они от меня хотят – пойду управлять фабрикой».
Когда я прочитал письмо, меня обуял ужас. Я написал его матери и открыто сказал ей о том, что ее сын может покончить с собой. Конечно, я просил ее не говорить Францу о моем вмешательстве в это дело. Ответ, который я получил 7 октября 1912 г., был полон материнской любви. Он начинался словами: «Я только что получила ваше письмо, и оно привело меня в шок. Я, отдавшая кровь сердца для того, чтобы мой сын был счастлив, беспомощна и не могу ему помочь. Тем не менее я сделаю все, что в моих силах, чтобы увидеть его счастливым». Далее мать Франца стала излагать суть дела. Она писала, что отец Франца заболел, поэтому Францу приходится ходить на фабрику каждый день и тем временем подыскивать себе замену. «Я поговорю с Францем, не упоминая о вашем письме, и скажу, что ему не нужно приходить завтра на фабрику. Надеюсь, он послушается меня и успокоится. Умоляю вас, дорогой доктор, успокойте его, и благодарю вас за то, что вы так любите Франца».
Нужно разобраться с тем, как Кафка относился к творчеству и какое значение он ему придавал.
«Писать – все равно что молиться». Это, пожалуй, самое откровенное место в дневнике. Франц оставил, к сожалению, в незавершенной форме записи беседы с антропософистом д-ром Рудольфом Штейнером. Ясно, что, когда Кафка работал, он экспериментировал, и его эксперименты были очень похожи на опыты, описанные д-ром Штейнером. Кафка сравнивает свое творчество с «новым оккультным учением», своего рода каббалой. Литературное творчество было «единственным желанием», его «единственной профессией», как писал он в одном из писем. 6 августа 1914 г. он писал в своем дневнике: «Мое желание изобразить мою наполненную фантазиями внутреннюю жизнь отодвинуло на задний план все остальное; другие интересы утратили свое значение. Ничто другое не может сделать меня счастливым. Но невозможно просчитать, насколько хватит у меня сил для этого. Может быть, силы окончательно иссякли, может быть, они вернутся ко мне, хотя жизненные обстоятельства этому не благоприятствуют. Так я и колеблюсь, взлетая беспрестанно на вершину горы, но не в силах там ни на мгновенье отдохнуть».
«У меня есть мандат», – говорит Кафка в другом отрывке, и под этим, наверное, подразумевается литературный мандат, религиозные вопросы здесь отступают на второй план. Что касается религиозного вопроса, то религия Кафки заключалась в преклонении перед полнокровной жизнью, наполненной хорошей работой, для которой было характерно равноправие и которая должна была протекать в справедливом национальном и человеческом сообществе.
«Быть одному – наказание» – эта сентенция в дневнике Кафки является для него лейтмотивом. Эта мысль выражена в рассказе «Певица Жозефина, или Мышиный народ». 6 января 1914 г., после прочтения «Опыта и воображения» Дильтея, он писал: «Любовь к человеку, уважение ко всем его проявлениям, спокойное наблюдение за жизнью». Строки из письма к Оскару Поллаку («Лучше почувствовать вкус жизни, чем прикусить язык») также показывают активное отношение Кафки к жизни.
В конце 1913 г. он пишет следующее:
«Единообразие человечества состоит в том, что каждый человек, даже наиболее общительный и приспособленный к взаимодействию с другими людьми, рано или поздно начинает сомневаться, пусть даже с оттенком сентиментальности, в своей взаимосвязи с человеческой общностью, и у него возникает потребность открыть себя каждому человеку или, по крайней мере, проявить свое желание раскрыть себя со всех сторон, показать свою принадлежность ко всему человечеству, и такие индивидуальности встречаются нам на каждом шагу». И это написал человек, в работах которого тема одиночества и разобщенности между людьми возникает снова и снова, даже в рассказах о животных (душа животного не может быть постигнута человеком). Эта тема звучит в рассказе «Гигантский крот» или в еще не опубликованном фрагменте от августа 1914 г., который начинается словами: «Когда-то я работал на железной дороге в глубине России, – и далее следует: – Было ли лучше мне оттого, что возрастало мое одиночество». Создается впечатление, что в душе Кафки борются две противоположные тенденции: желание одиночества и востребованности обществом. Но такое впечатление вызвано непониманием того, что Кафка не одобрял склонности к одиночеству и идеалом для него была жизнь в обществе, – к такой жизни безуспешно тянулся К., герой его романа «Замок».
Во многих описаниях холостяцкой жизни, которые играли большую роль в его произведениях, Кафка старался осознать, в чем была его правота и чему следовало бы противостоять. По правде говоря, Кафке нужно было одиночество для занятий литературным творчеством, ему необходимо было уходить в себя. Даже обычный разговор с другом мог представлять для него опасность. Кафка изучал себя ежеминутно.
В 1911 г. он пишет о себе: «В переходный период, в котором я пребывал последние недели и до настоящего момента, я с грустью ощущаю, что мне недостает эмоций, я отделен от всего мира пространством, которое не в силах преодолеть». И в марте 1912 г.: «…кто подтвердит мне непреложность того, что одиночество – это последствие моих литературных устремлений, оно – результат того, что я не интересуюсь больше ничем, я бессердечен».
О, мой слишком совестливый друг! Твоя литературная работа – это лишь символ твоей праведной жизни, и в то же время – она нечто гораздо большее. Она существует сама по себе, она – твоя жизнь, она – наиболее правильное и соответствующее выражение тех творческих сил, с которыми ты родился. Это – то, что ты требуешь от себя и от всего человечества: не тратить впустую дарованные ему способности, не дать им зачахнуть, но использовать каждое свое усилие для того, чтобы выполнить «Поручение» и таким образом предстать перед «Судом», отбиваясь от нападок грешников, старающихся не дать другим войти в ворота. Соблазнов – великое множество. «Если ты поддашься ложному звону ночного колокола, ты уже никогда этого не исправишь». «Никто, никто не укажет тебе путь в Индию. Даже тогда (во времена Александра), когда ворота в Индию были неприступны, меч царя указал дорогу. Сегодня эти ворота находятся где-то в другом месте, на более дальнем расстоянии, на большей высоте. Но никто не указывает дорогу. У многих есть мечи, но они только беспорядочно размахивают ими, и обращенные на них взгляды не могут уловить никакого направления». (Из сборника рассказов «Сельский врач».) И все же «неподкупность» и «неразрушимость» в нас остаются. Мы смотрим на них издалека, «со времени битв Александра», мы читаем и перелистываем страницы «наших старых книг», ждем пришествия «имперского посланника». Это то, чему учил нас Рабби Тарфон в «Изречениях отцов», тонко понимая постоянно колеблющееся противостояние между оптимизмом и пессимизмом: «Вам не дано выполнить задачу, но это не значит, что вы должны отказываться от ее выполнения».