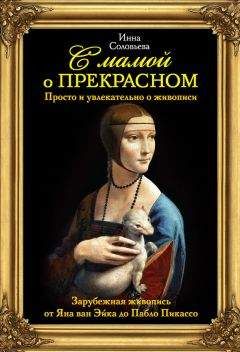Пикассо мрачно сообщает своим друзьям, что ждет теперь только, чтобы отец прислал ему денег, а тогда уедет. Можно себе представить, чего ему стоило попросить у отца эти самые деньги, ведь это означало признать свое поражение, но лишения, которые приходилось терпеть в Париже, выше его сил. У него пе осталось денег даже на покупку угля, а зима выдалась суровая. Когда его друзья засиживаются в «Цыц» или когда дорога на левый берег Сены кажется им слишком длинной, он приглашает их к себе. Время от времени у него живет де Сото и ночует Сабартес. Вместо подушек они кладут под голову толстые книги. Всю одежду, которая у них есть, они натягивают на себя, а картины служат ширмами от сквозняков, проникающих во все щели. Сорок лет спустя Сабартес прекрасно помнит, как им было тогда холодно.
В январе 1902 года перед отъездом в Барселону Пикассо рисует странный «Автопортрет» (собственность Пикассо). Трудно поверить, что на нем изображен двадцатилетний юноша. Он отпустил усы и бороду. На квадратном лице впалые щеки, под глазами синева, кажется, что глаза прячутся в орбитах. Взгляд, обращенный на зрителя, преисполнен глубокой грусти, как если бы он совсем перестал верить в жизнь. Губы — это стало уже привычным — плотно сжаты. Не нужен далее высоко поднятый воротник пальто, чтобы понять, что человеку очень холодно, чго, возможно, он страдал от голода и болезней. Это лицо человека созревшего, обманутого, разочарованного, пожелавшего запечатлеть, хотя бы только для себя, образ перенесенных испытаний. Для будущего Пабло Пикассо, для всех его тревог и упрямства значительным было то, что уже в 20 лет он приобрел черты много пережившего человека.
ГЛАВА IV
Голубые сумерки
(1902–1904)
«Я много работаю, — пишет Пабло Максу Жакобу из Барселоны. — То, что я делаю, я показываю своим друзьям, местным художникам (это он подчеркивает), они находят, что в моих картинах слишком много души и отсутствует форма, это забавно. Ты умеешь разговаривать с такими людьми, но они пишут очень плохие книги и совершенно идиотские картины». Уже тогда в нем поселилась нетерпеливость, заставляющая его движением плеч или жестом руки отгонять, как надоедливую муху, глупые возражения. Если эти критики, привыкшие к посредственности, и имеют на него какое-то влияние, то действует оно только в одном направлении: он настойчиво продолжает следовать по избранному пути и только еще больше упрямится. Презрение мешает ему пойти на уступки и спасает его. И он свыкается со своим одиночеством: такова жизнь.
Кристиан Зервос сказал однажды о Пикассо. «Это был самый гордый человек нашей эпохи». По гордость эта пришла к нему не с известностью и не с финансовым успехом. Он с ней родился, она жила в нем даже тогда, когда, казалось, все было против него. Наверное, будущего Пикассо легче понять через это его самосознание, смотрящее в завтра. Если не было никакой, или почти никакой, отдачи в Париже, он заключает, что и в Барселоне его тоже не поймут. Вера посредственных близорука, и ни один из его знакомых художников не добился даже провинциальной известности. Эти картины, в которых «слишком много души», и за которые его упрекают, будут стоить бешеных денег, но это потом, а пока он не может даже заработать на самую скромную жизнь. Он продолжает жить с родителями, а работает в мастерской, которую снял брат его друга Анхел де Сото. Еще один художник, тоже друг де Сото, платит половину аренды. Он работает в одном углу, а Пикассо в другом. И хотя этот последний весьма скромно участвует в издержках, его рисунками, холстами и красками мастерская буквально завалена, а кроме того, он заполняет все помещение своим присутствием и своей лихорадочной работой до такой степени, что сам де Сото скоро уже начинает говорить: «мастерская Пикассо».
В этой каторжной работе он отнюдь не ищет способа забыться, напротив, он вступает в один из тех редких периодов, когда его внутренний мир открывает в себя доступ миру внешнему, проявляя острый интерес ко всему, что его окружает..
Мне кажется, что тот момент, когда Пикассо начинает рисовать пейзажи, становится для него своеобразной вехой, отмечающей поворот в его творчестве. «Да, возможно», — говорит Пикассо. Для него пейзаж всегда был второстепенным искусством, он как бы погружается в то, что ему знакомо, это повторение пройденного. Но при этом художник готовится к работе над новой темой, это похоже на то, как оркестр настраивает инструменты перед тем, как сыграть симфонию.
Один из пейзажей, написанных им по возвращении в Барселону, это вид из окна мастерской, Пикассо назвал его «Голубой дом»; его лазурная крыша как будто растворяется в небе, сам дом цвета охры, а улица подернута голубоватой дымкой.
По сравнению с картинами, написанными в Париже, эта голубизна проявляется гораздо ярче. Это замечает Сабартес, когда весной приезжает в Барселону. Он отмечает изменение света и усиление голубизны. Под ярким солнцем тени Пикассо стали глубже. То, что под перламутровым небом Иль-де-Франса казалось голубым с сероватым или зеленоватым оттенком, здесь, в Барселоне, превращается в почти чистую лазурь.
Было много споров о том, что вызвало появление на свет «голубого периода». Говорили о влиянии каталонских художников, Исидро Нонелла например, или еще Себастьена Жуниента, который гораздо старше Пикассо, а в то время они как раз подружились. Однако «голубой период» начался в Париже, а в Барселоне лишь стал более определенным. На первые попытки Пикассо в этом направлении могли повлиять и лунный свет, ставший очень модным в то время, и северные мечтания, пропитавшие каталонскую поэзию. Монохромность Уистлера также могла побудить его попробовать работать с единством цвета. Помимо всех прочих причин говорили и о бедности художника, который не мог себе позволить покупать столько красок, сколько ему было нужно, а также о скудном освещении, так что он якобы вынужден был писать при лунном свете.
Очень редко бывает, чтобы приводились причины возникновения нового художественного видения, настолько далекие от действительных.
Какими бы ни были истоки этой манеры Пикассо, голубая палитра тесно связана с обновлением его внутреннего мира, с полным пересмотром взаимоотношений между человеком и пространством, в котором он развивается: это равновесие достигается размещением на полотне «собранных», «сконцентрированных» человеческих фигур. Пикассо подчеркивает их независимость от внешнего мира. Отныне его персонажи несут в себе свой собственный центр тяжести, они развиваются вокруг собственной оси, избегая любого контакта, кроме того, которые они черпают в себе. Композиции картин с изображением материнства продуманы так, чтобы создавалось как можно более тесное единство: складки накидки, тяжелая голова матери, а ребенок как бы окружен кольцом из рук и накидки.