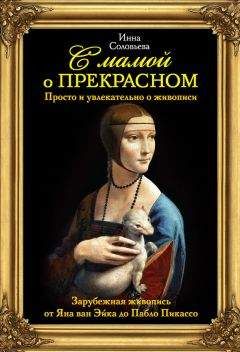Эти Мадонны Пикассо — он сам никогда их так не называл — очень близки к флорентийским святым. У них такая же устало склоненная голова, нос и лоб образуют прямую линию, резко обозначенные брови, слишком тонкие запястья, очень длинные и гибкие руки с непропорционально длинными пальцами одинаковой толщины по всей длине. Эти руки так же характерны для его голубого периода, как и палитра. Ребенок, защищенный кольцом материнских рук, слишком серьезен, лоб его слишком тяжел, как на картинах художников Кватроченто. Пикассо, по всей видимости, вспоминал свои походы в Лувр. В Париже он часто спорил со своими барселонскими друзьями об источниках вдохновения художника. «Мы утверждали тогда, — пишет Сабартес, — причем идея принадлежала Пикассо, — что настоящий художник должен быть невеждой, он должен игнорировать все, поскольку знание загромождает, мешает видеть, лишает непосредственности восприятия и выражения… Полотна примитивистов как будто бы подтверждали правильность нашей доктрины; они блистали невинностью, не зараженной искусственностью».
Впрочем, такой образ мыслей диктовался временем и был особенно характерен для барселонских литературных кругов. Мощное влияние прерафаэлитов определило восхищение работами тех, кого окрестили «примитивистами». Однако английские художники и их немецкие подражатели взяли от Кватроченто лишь самую очевидную, чисто внешнюю сторону его стиля: декоративное расположение планов, переплетение узоров одежды и волос, эдакий живописный анекдот. Пикассо же все-таки ближе к Боттичелли, чем английские художники-литераторы. Его матери («Материнство», коллекция Бернхейма, Париж; или «Материнство на берегу моря», коллекция Фонтбона, Барселона) охвачены тем самым порывом, который так характерен для религиозных полотен, — они защищают дитя.
«Откровения» (Государственный Музей изобразительного искусства (ГМИИ), Москва) стали великолепно исполненной реминисценцией живописи периода Кватроченто. Композиция этой картины изысканна, двадцатилетний Пикассо показал все свое мастерство в подчинении объектов пространству. Тела двух женщин поднимаются вверх единым параллельным движением и образуют как бы арку, поддерживаемую двумя колоннами. Это соседство двух голов свидетельствует о психологической проницательности молодого человека. Одна женщина, подавленная бременем своих признаний, молчит, опустив тяжелые веки; у другой, слушательницы, в глазах ужас, причем на картине изображен ее профиль, а глаза даны так, как будто художник изобразил ее анфас.
И все же матери Пикассо, задрапированные в свои одежды, как античные статуи, это сестры тех самых падших женщин, которых он начал рисовать в Париже и продолжал в Барселоне. Создается впечатление, что для пастели «Материнство» (Бернхейм) и «Пьяницы» (Гамбург) он использовал одну модель, одинакова даже прядь, упавшая на щеку. А «Сидящая женщина» (бывшая коллекция Воллара) напоминает ту, что изображена на картине «Откровения».
«Проститутки в баре» (коллекция Уолтера П. Крайслера) видны только со спины. Всем своим видом они бросают вызов, как того и требует их профессия, но тощие их спины — обнаженная обесцвеченная плоть — выражают тоску и безграничную усталость.
Проституток Пикассо также рисует в голубых тонах. Это, по словам доктора Юнга, «голубизна ночи, лунного света или воды, а иногда — голубизна египетского ада». Позже, говоря о выставке работ Пикассо в Цюрихе, один психоаналитик заявил, что его искусство — типичное проявление шизофрении, этого «конфликта чувств или же вообще полного отсутствия чувствительности». Он усмотрел в картинах Пикассо нечто вроде морального разрушения, выражающегося в «разорванных линиях, что ассоциируется с психическими трещинами, пересекающими образы». Эти художественные образы «либо оставляют зрителя равнодушным, либо вызывают у него удивление своей парадоксальной, пугающей, волнующей или гротескной смелостью». Доктор Юнг, не особенно интересующийся современным искусством, не посещающий выставок и, больше того, почти ничего не знающий о современных литературных течениях, сравнивает «шизофреническую выразительность» Пикассо с выразительностью Джеймса Джойса: «Уродство, болезни, гротеск, банальность — все это вытаскивается на свет Божий, но не для того, чтобы просто продемонстрировать, а чтобы показать это завуалированно; скрытность эта похожа на холодный туман, укрывающий пустынное болото просто так, без всякой цели. Это похоже на спектакль, который может обойтись без зрителя». Психиатр, общающийся в основном с больными людьми и знающий только проявления психической неустойчивости, видит в искусстве Пикассо «демоническую притягательность уродства и зла». «Голубой период», по его словам, купается в «пессимистической атмосфере конца света», это «схождение в ад», распад конкретных форм, «мрачные шедевры растленного, туберкулезного и сифилитического отрочества».
Это мнение Юнга вызвало оживленную полемику между почитателями Пикассо и его хулителями.
Если Пикассо, как и всякий настоящий творец, на короткой ноге с монстрами и смело отдает их на суд нашего воображения, то выглядят они у него так убедительно лишь потому, что сам он — человек чрезвычайно уравновешенный. А вокруг него царит растерянность, участились случаи самоубийства молодых людей как раз из того круга, к которому принадлежит Пикассо. Многих других настигают психические заболевания, сошел с ума друг Пабло Себастьен Жуниер. Но несмотря на все это молодой человек, живущий в этом «адском мире», сохраняет всю свою жажду жизни и вполне нормальные желания и побуждения. В его творчестве самым большим стимулом было и есть прекрасное женское тело.
В это время в Барселоне как раз идет спектакль, взбудораживший весь город. Прекрасная Челито демонстрирует номер под названием «Блоха», нечто вроде современного стриптиза. «Когда она раздевается, публика сходит с ума». Молодой Пабло Пикассо бывает чуть ли не на всех представлениях. Однажды около полудня Сабартес зашел к нему в гости. Пабло еще спал, и мать потихоньку провела Сабартеса в его комнату; на столе, на стуле, на полу лежали рисунки с изображением соблазнительных поз Челито. Создается впечатление, что, как только он овладел формой, им овладело желание. Он овладел уже той самой уверенной линией контура из своих будущих шедевров, быть может, он унаследовал ее от испанских каллиграфов семнадцатого века, которые, не отрывая пера от бумаги, выводили узоры барокко или ангелочков, выпускающих на волю птиц, называя это свое искусство «новым искусством письма»? Нет, — отвечает Пикассо, — все гораздо проще.