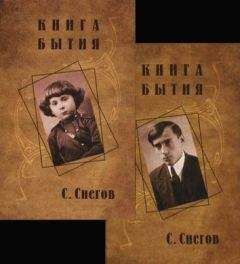И весь долгий сияющий вечер у нас было хорошее настроение.
Осенью 1935 года Нору зачислили в студию Камерного театра.
Я ждал этого с нетерпением и страхом: боялся, что она провалится и останется в Одессе. Одесса была для меня недоступна. Москва была не просто ближе — она гарантировала хоть какое-то облегчение. Я просто не знал, как Нора сумеет пережить второй после нашего разрыва удар — провал на экзаменах.
Я все больше понимал, что разрыв этот был всего лишь формальным — она оставалась со мной, во мне. Уже в первые свои ленинградские дни я стал заваливать ее письмами. Бывало, я приезжал в город из своего тайского заточения лишь для того, чтобы побывать на центральном почтамте: не пришло ли письмо до востребования?
А когда письмо приходило, начинались новые мучения: его надо было уничтожить, чтобы не прочла Фира, а у меня не хватало сил порвать бумагу, на которой были слова, написанные Нориной рукой. Я жил двойной жизнью — и терял к себе уважение. Я скрывался и лицемерил.
У нас с Фирой было неоговоренное, но свято соблюдаемое условие: о Норе мы не говорили. Но я не выдержал и рассказал, что она уже в театре.
— Ты, конечно, поздравил ее, раз ты с ней все-таки переписываешься, — сказала Фира.
— Разумеется, поздравил! Не мешало бы и тебе это сделать. А что до переписки… Я обещал порвать нашу связь. Но перестать интересоваться ее жизнью — такого обещания я не давал!
— Вспоминаю, ты не обещал и стать к ней безразличным… Все-таки хорошо, что она выбрала московский, а не ленинградский театр. Поздравь ее от меня сам, я ей писать не буду. Она слишком красива, чтобы я с ней дружила.
Фира и раньше почему-то напирала на Норину красоту, хотя (я знал это твердо!) было в Норе нечто, что покоряло меня гораздо сильнее.
Удачное поступление бурно взметнуло мои воспоминания. Я не мог никому ничего сказать — и снова стал переносить свои тайные переживания в рифмованные строчки. Я писал и перечеркивал, снова писал — я и раньше так работал. Но появилось и нечто новое: я заметил, что стал терять свой талант. Уже не было прежней легкости, не стало улучшающих переделок… Да, конечно, я по-прежнему старался: что-то менял, что-то говорил по-новому — но стихи от этого лучше не становились. Говорят, поэзия заканчивается в молодости, единственное исключение — Гете — только подтверждает это правило. Неужели закончились и мои стихи?
Частые мысли о Гете (до этого он никогда не числился в моих любимцах) вдруг заставили меня написать — не то как подражание, не то как посредственное продолжение — цикл стихов о Фаусте. В гениальном отрывке Пушкина молодой второй молодостью доктор философии сентиментально признается бесу, что единственным святым переживанием его жизни была любовь к Маргарите. А язвительный, блистательно умный Мефистофель цинично доказывает, что в этом безгрешном чувстве никогда не было самой любви, с верой, а не сомнениями, с нерасторжимостью тел и душ, а не тайным безразличием после первого же удовлетворения. Пригрезившийся мне Фауст был истинным немцем: сентиментальным, наивно-искренним, по-тевтонски привязанным к философским разглагольствованиям в полумраке пивного кабачка. И он снова старел.
Вероятно, не только уходящее мастерство, но и примитивность замысла привели к тому, что все стихи этого цикла оказались сплошь неудачными. Я их рвал и бросал в корзину.
Помню, что последнее фаустовское стихотворение я написал 31 декабря 1935 года — перед уходом на новогодний вечер к Георгиевским. И в нем, посвященном, естественно, Норе, я рассказывал и о своей любви к ней, и о фаустовской тоске по Маргарите — личное чувство винегретно перемешивалось с общечеловеческими страданиями. Долгие годы я думал, что эти стихи тоже пропали.
Но в 1950 году, через десять лет после смерти Норы, я приехал в Одессу и пришел к ее матери, одинокой, потерявшей обоих детей (дочь погибла в сибирской эвакуации, сын — на северном фронте). И она отдала мне связку моих писем к Норе — в одном из них оказалось и это стихотворение. Уже понимая, что поэтические мои способности неостановимо истощаются, я, оказывается, не удержался от искушения порадовать Нору напоминанием о неизбывности моего чувства.
Переписываю его не полностью — оно на самом деле мало похоже на то, что я писал раньше.
С новым годом! В далеком детстве
Я мечтал: с тобой до седин. Ты ушла.
Я не знаю средства
Воротить тебя. Я один.
Радость, счастье, любовь нарушу,
Затащу весь мир по судам.
И отдам бессмертную душу,
Все мечтанья, все сны отдам.
В скорбных радостях и печалях
Ты проносишься, как в бреду…
Приходи! Как невесту — встречаю,
Как любовницу — ночью жду.
В первые мои ленинградские месяцы я часто хотел одиночества. Я никогда его не боялся — вероятно потому, что не знал. Я, даже совершенно один, всегда был с очень интересным собеседником — самим собой. Но друзей я раньше не избегал.
В Ленинграде меня постоянно окружали люди — и часто очень необычные: мои собственные (все умножающиеся) знакомые, родственницы Фиры — Эмма, Сусанна, их подруги, приятели Бориса. Никто, однако, не стал мне по-настоящему близок. Я принимал новые знакомства, но не откликался на дружбу. Я вдруг стал терять интерес к людям. Я начал их сторониться.
Вначале я думал: это происходит из-за того, что я полюбил город. Великие архитектурные творения Ленинграда захватывали меня гораздо больше, чем идущие мимо них прохожие. Любоваться зданиями было удобней в одиночестве, а не коллективно. Саша в этом смысле был исключением, но Саши на Неве уже не было. Чем больше я вникал в город, тем очевидней становилось: мне лучше с ним, чем с теми, кто в нем жил. Я не столько знакомился с Ленинградом, сколько старался отвлечься от ленинградцев.
И когда я это понял, я стал создавать для себе одиночество.
Лучшей его формой стало время, проведенное в парках. Я начал с городских — Летнего сада и Михайловского, потом пошли загородные — Петергоф, Детское село, Павловск. Но больше всего меня покорила Гатчина.
Ее парк был обширен и пуст (он почему-то был не в чести у ленинградского начальства). Великолепный, всегда закрытый дворец не привлекал посетителей, чудесное озерцо неподалеку от него не облепляли ларьки и киоски, в прекрасных аллеях не бродили парочки. Зато здесь хорошо думалось — и я с новой остротой ощущал любимые с детства строчки:
И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада.
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам мой юный ум,
И праздно мыслить было мне отрада.[168]
Я привык каждое воскресенье уезжать в Гатчину, бродить несколько часов по парку, где-нибудь наскоро перекусывать и только к вечеру возвращаться в Ленинград.