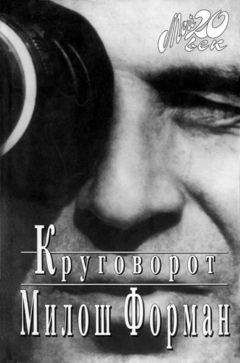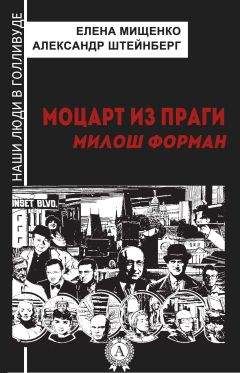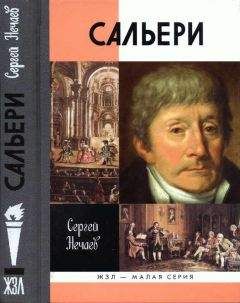Поздней весной 1950 года, на фоне продолжающегося успеха «Баллады в лохмотьях», я держал экзамен по специальности в пражскую Академию драматических искусств. В ходе экзамена нужно было делать этюды на разные темы, например, такие, как «пожар»; разрешалось использовать других абитуриентов, то есть распределять между ними роли уснувшего курильщика, пожарника, играющего в карты в своей казарме, когда раздается сигнал тревоги, матери, которой нужно бросить ребенка с крыши в растянутую внизу сеть, бесстрастных зевак, и высокопрофессиональные судьи оценивали ваши способности.
Представ перед авторитетной комиссией, я чувствовал себя спокойно и уверенно. Я знал, что именно во мне они могут найти то редкое дарование, которое им так нужно. Председатель комиссии посмотрел на меня внимательно, как будто бы ему передавались мои ощущения.
— Ну что же, товарищ Форман, почему бы вам не показать нам «борьбу за мир во всем мире»? — сказал он самым обычным тоном.
У меня по спине заструился пот.
— Ну да. Да, конечно, — выдавил я, потом сел на место и задумался.
У меня было полчаса для подготовки этюда. Чувствовал я себя так, как будто только что перенес полную фронтальную лоботомию. У меня уже не оставалось мозгов в голове. Я уже не помню, какие глупости я собрал воедино, чтобы изобразить борьбу за мир. Я не уверен, что помнил об этом на следующее утро. В этот день я окончательно усвоил урок забвения.
Экзамен по специальности поколебал меня, но в моих ушах все еще звучали аплодисменты прошлого понедельника. Я чувствовал себя ветераном сцены. Я прошел через взятки, постановочную работу и удары током на сцене, и, чем больше я думал об этом, тем больше верил в то, что меня примут в Академию, и я спокойно отправился приятно проводить время на озере Махи.
В конце лета я получил письмо с отказом из Академии драматических искусств. У меня не было никаких планов на случай поражения, а экзамены в большинстве университетов уже закончились. Если я не найду себе какого-то занятия, меня ждут два года армии.
Заявления принимали только три высших учебных заведения. В одном готовили специалистов по шахтам и инженеров, в другом — юристов, в третьем — в пражской Киношколе (ФАМУ) — сценаристов. Я подал заявления во все три места.
Раньше всего я сдавал экзамены в Киношколу. Экзамен длился весь день, и я помню, что нужно было написать что-то вроде сочинения. Я старался изо всех сил, я выложился до конца, и в тот же вечер мне сказали, что я принят.
Чувства, испытанные мною при получении «Оскара», не идут ни в какое сравнение с тем, что я пережил в тот день.
Пражская Киношкола руководствовалась в своей работе старомодными принципами. Я учился на сценарном факультете, и за все четыре года обучения мне не пришлось ни разу взять в руки камеру или поговорить с актером, хотя я и должен был выучить все касающееся искусства экспозиции, диалогов, образов и катарсиса. Мы писали горы сценариев, разработок и коротких рассказов. Мы просмотрели кучу фильмов и разбирали их по косточкам, часто засиживаясь далеко за полночь в душных, шумных и прокуренных комнатах.
Благодаря школе развивалась наша восприимчивость, мы становились личностями под руководством лучших чешских деятелей искусства. У многих из них — сценаристов, режиссеров и людей других кинопрофессий — вряд ли нашлось бы время для преподавательской работы, но коммунистические чистки прервали их карьеру, и у них не было другой возможности заработать на жизнь. Оглядываясь на мои студенческие годы, я могу сказать, что самым главным, что они дали мне, да и моим учителям, — это возможность выстоять против страшной бури сталинизма, разрушавшей и губившей всех и вся в нашей стране.
Самый молодой из моих профессоров, Милан Кундера, всего на несколько лет старше меня, уже был знаменитым поэтом. Это был красивый, остроумный, известный своими весьма фривольными взглядами человек, отвлекавший от учебы девушек-студенток. Он преподавал литературу, и его лекции, посвященные любимым французским писателям, были ясными и полными иронии.
Однажды он велел нам прочитать повесть в письмах, написанную человеком, который в чине генерала принимал участие в итальянской кампании Наполеона. Она называлась «Опасные связи», и в то время, когда мои мысли постоянно были заняты сексом, откровенное обсуждение любовных интриг, приключений и забав произвело на меня настолько сильное впечатление, что спустя примерно тридцать лет я поставил фильм по этой книге.
Но из-за французской литературы меня чуть было не исключили из Киношколы. Как-то раз мой близкий друг Зденек Боровец и я самозабвенно обсуждали в классе творчество запрещенных поэтов. Мы оба обожали Бодлера, Рембо и Верлена и знали массу историй из их жизни.
Спустя несколько дней декан Киношколы вызвал нас в кабинет. Наш профессор Милош Кратохвил привел нас туда и внимательно слушал, как декан объясняет нам, насколько важной представляется ему идеологическая чистота его заведения.
— Я не потерплю в этой школе никаких «декадентов»-франкофилов! — этими словами декан завершил свою обличительную речь.
— Да, вы правы, товарищ декан, — согласился с ним Кратохвил. — Это, конечно, очень серьезная проблема.
— Так что же вы предлагаете делать, товарищ? — декан набросился на Кратохвила. — Речь идет о вашем курсе!
— Я думаю, что в данном случае на карту поставлена политическая честь всего коллектива курса, — сказал Кратохвил.
— Именно так, — сказал декан. — Нам нужно серьезно подумать об исключении, не так ли?
— Совершенно верно, — сказал Кратохвил.
Каждому было известно, что декан был настоящим партийным ястребом, но Милош Кратохвил был выдающимся преподавателем, прекрасным литератором, человеком невероятной доброты. Раньше он был особенно внимателен ко мне, но теперь, когда декан отпустил нас, Кратохвил ушел, бросив мне короткое «До свиданья».
Я побрел домой, преследуемый видениями расстрельных команд, людей в форме, пулеметов и танков. Некоторые молодые коммунисты с нашего курса боготворили товарища Сталина, и я серьезно опасался, что даю им возможность проявить себя еще большими сталинистами, чем их кумир.
Спустя несколько дней Кратохвил созвал заседание «суда чести», причем предложил, чтобы коллектив курса собрался в «Викарке» — ресторане Пражского замка. Все знали, что в этом заведении любил обедать коммунистический президент Антонин Запотоцкий, так что возражений не последовало, хотя обычно эти заседания с обсуждением и осуждением провинившихся происходили в классной комнате. Я не понял смысла странной идеи Кратохвила, но был так испуган, что и не думал об этом.