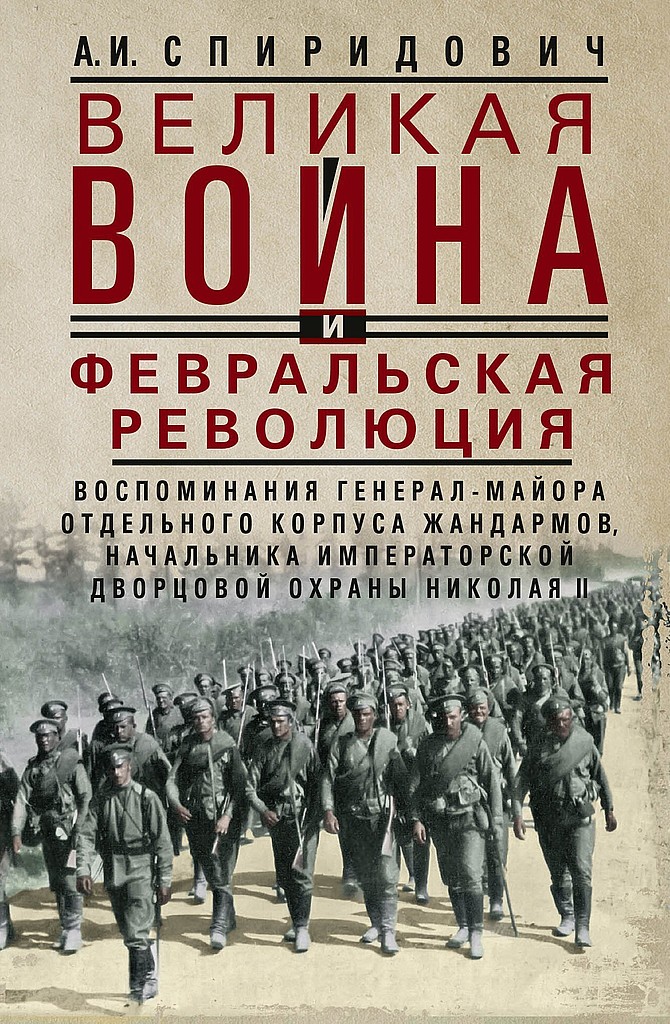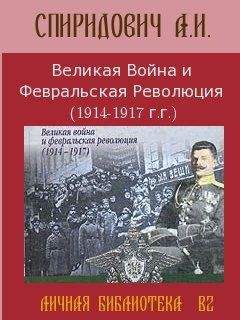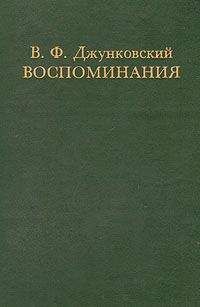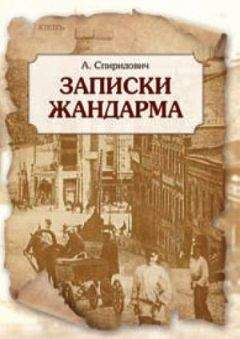произведены обыски и аресты лиц, связанных родством, знакомством или какими бы то ни было сношениями с Мясоедовым. Всех арестованных надлежало направлять в Варшаву, самое же дело, как было указано в телеграмме генерала Янушкевича, «повелено закончить быстро и решительно». Сам Мясоедов был арестован в Ковно вечером 18 февраля, куда его послали со служебным поручением. Ничего предосудительного или даже подозрительного у него обнаружено не было. На квартире же дамы, с которой Мясоедов жил вместе, как с женой, нашли вещи, присланные им из Восточной Пруссии.
Перенесение дела в Варшаву, в Варшавский военный округ являлось противозаконным. Там дело было поручено не военному следователю, как того требовал закон, а следователю по важнейшим делам Варшавского окружного суда, каковую должность временно занимал некто Матвеев. 16 марта из Ставки последовало повеление выделить из общего производства личное дело Мясоедова и назначить его к слушанию в Военно-полевом суде. Это повеление указывало ясно на желание Ставки покончить с делом Мясоедова поскорее, что и было понято в Варшаве (да и было разъяснено командированным из Ставки для наблюдения за ходом процесса прапорщиком Орловым, позже по службе у большевиков Орлинский [46], место которого занимал Матвеев).
Военно-полевой суд признал Мясоедова виновным и приговорил его к смертной казни через повешение. Державшийся во время суда спокойно, Мясоедов, бледный как полотно, слушал приговор и при словах «к смертной казни» покачнулся, прислонился к стене и закрыл лицо руками.
— Позвольте послать телеграмму государю, я хочу проститься с матерью, — как-то безнадежно воскликнул он и, теряя сознание, стал грузно опускаться на пол.
Телеграмма его величеству послана не была, телеграммы же матери и жене, в которых несчастный клялся в невиновности и просил умолять государя о помиловании, были задержаны и подшиты к делу. Идя на казнь по коридору крепости, Мясоедов зашел в уборную и пытался перерезать горло стеклом от пенсне. Стража помешала это сделать. Через пять с половиной часов после объявления приговора Мясоедова казнили.
Совершилась одна из ужасных судебных ошибок, объясняющаяся отчасти обстоятельствами военного времени, а главным образом политической интригой. Никаких данных, уличающих Мясоедова в измене, кроме вздорного оговора подпоручиком Колаковским, поступившим к немцам на службу по шпионажу, не было.
С Мясоедовым расправились в угоду общественному мнению. Он явился искупительной жертвой за военные неудачи Ставки в Восточной Пруссии. Об его невиновности говорили уже тогда. «Нехороший он человек, — говорил один принимавший участие в деле генерал, — но изменником не был, и повесили его зря». Но те, кто создали дело Мясоедова, и главным образом А. И. Гучков, те были довольны. В революционной игре против самодержавия они выиграли первую и очень большую карту. На трупе повешенного они создали большой процесс с многими невинно наказанными и, главное, процесс генерала Сухомлинова, сыгравший в его подготовительной стадии едва ли не самую главную роль по разложению тыла и по возбуждению ненависти к государю.
Но что же делала Ставка, раздувая дело Мясоедова? Ставка, слабая по особам, ее представлявшим, шла навстречу общественному мнению. Слепая толпа требовала жертв. Слабая Ставка великого князя их выбрасывала, не думая о том, какой вред она наносит Родине. Скоро Ставка на себе убедилась, как опасно играть на мнимой «измене» и прикрывать ею свои ошибки. Не прошло и месяца, как поползли самые нелепые слухи, что будто бы один из самых ответственных генералов Ставки — изменник. Что его изменою объясняются неудачные операционные планы Ставки. Слухи дошли даже до царского дворца.
Вот каков был ужасный результат неумной политики генерала Янушкевича, пожертвовавшего ради пресловутой «общественности» правдой и справедливостью. А он тоже любил Родину и тоже хотел ей добра. Какая ужасная трагедия и какая колоссальная моральная ответственность лежит на совести главного автора дела Мясоедова, величайшего из политических интриганов-эгоистов — Александра Ивановича Гучкова.
Официальное сообщение Ставки о казни Мясоедова как бы подтвердило правильность всяких нелепых слухов о разных изменах. А тут, как на беду, произошел большой взрыв на Охтинских пороховых заводах, и о немецком шпионаже в тылу заговорили еще больше. Ко всему этому прибавилась скандальная история, происшедшая с Распутиным в Москве. С войной в Распутине произошли две перемены. Разными дельцами от банковских директоров до мелких спекулянтов он был вовлечен в проведение разных связанных с войной предприятий, а во-вторых, он стал пить и безобразничать в публичных местах, чего раньше с ним не случалось. Болезнь его лучшего и близкого друга А. А. Вырубовой принесла ему ту свободу, в которой он был очень стеснен, будучи всегда связан Анной Александровной. С ее прикованностью к кровати он стал свободен, чем и воспользовались его друзья другого лагеря.
Распутин стал пить и напиваться. К нему на квартиру стали приезжать его друзья, дамы и мужчины с запасами вина, с закусками, с гитарами, гармошками… Пили, ели, пели, танцевали, безобразничали. Веселясь с дамами общества, Распутин не чуждался и проституток. Все около него спуталось в один клубок, в котором имена дам общества переплетались с именами падших созданий. Когда старца спрашивали, почему он стал так кутить, он, смеясь, отвечал: «Скучно, затравили, чую беду».
25 марта Распутин выехал в Москву, где у него было немало поклонниц. В один из ближайших дней Распутин закутил с небольшой компанией у «Яра» [47]. Напился он почти до потери рассудка. Говорил всякий вздор, хвастался знакомством с высокопоставленными лицами, плясал непристойно, полуразделся и стал бросаться на хористок. Картина получилась настолько непристойная и возмутительная, что администрация обратилась к полиции. Бывшие с Распутиным дамы поспешили уехать. Сам он, как бы протрезвев, обругал полицию и уехал и в тот же день выехал обратно в Петербург. Скандал получил такую громкую огласку в Москве, что растерявшийся градоначальник, генерал-майор свиты его величества Адрианов, друживший с Распутиным, выехал также в Петербург с докладом о случившемся.
У нас, в Царском [Селе], шла горячка с приготовлением к отъезду его величества в Ставку, когда мне доложили о приезде генерала Адрианова. Генерал был в полной парадной свитской форме. Вид у него был озабоченный. На мой вопрос о столь неожиданном его приезде генерал рассказал, что он сделал уже доклад министру [внутренних дел] Маклакову, его товарищу Джунковскому, и что оба посоветовали ему ехать в Царское, добиться, по его положению в свите, приема у его величества и доложить о случившемся.
Вот он и приехал, но, прежде чем идти к дворцовому коменданту, зашел ко мне посоветоваться. Мы были с ним в хороших, простых отношениях. Я был очень поражен оборотом, который придали делу Маклаков и Джунковский. Последний, по словам генерала, особенно настаивал на