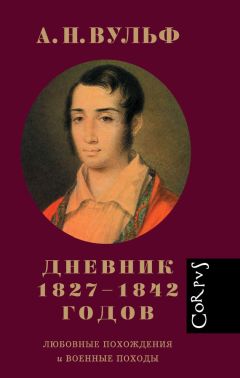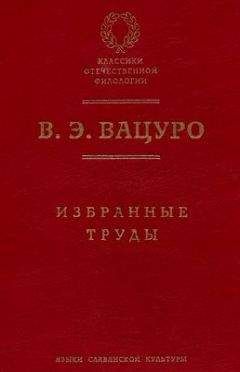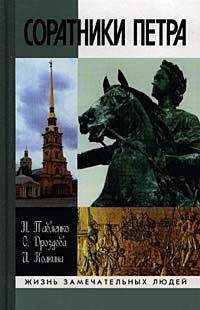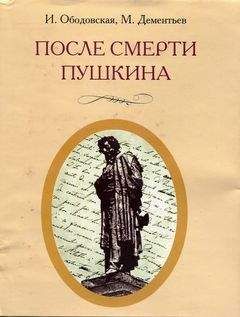Я нашел их дома и одних; никто не ожидал меня увидеть, и полагали, что я уже поехал в Молдавию. Не знаю, что думал барон, а Софья и Анна Петровна были очень рады меня увидеть. Первая кокетничала со мною по-старому, слушая мои нежности и упрекая в холодности; другую же, как прежде, вечером я провожал до ее комнаты, где прощальным, сладострастным ее поцелуям удавалось иногда возбудить мою холодную и вялую чувственность. – Должно сознаться, что я с нею очень дурно себя вел.
На другой день первою моею заботою было отыскать Wessels, университетского моего товарища, а теперя учителя в воспитательном доме, где он имел большую и прекрасную <квартиру>; у него-то хотел я остановиться, чтобы не платить напрасно в трактире деньги, потому что Пушкина не хотел я беспокоить, оставшись в его небольшой квартире. – На третий <день после> моего приезда переехал я к моему богослову. Теперь занимало меня определение в службу; я не знал, как начать: явиться ли к Дибичу с рекомендательным письмом от Адеркаса, но я не знал ни одного к нему приближенного человека, который мне бы сказал, как это сделать, и тоже не имел духа такими безделицами, как мое определение, занимать человека, отправляющегося начальствовать армиею, или искать другой дороги. Случай мне тут помог: у Анны Петровны я встретился с генерал-майором Свечиным, моим земляком по Тверской губернии, знавшим коротко моего отца, и мне сватом по сестре его, которая была за моим дядей30, а ко всему этому вдобавок, несмотря на 50 лет и 10 человек детей, волочившемуся за Анной Петровной. Он предложил мне свое ходатайство в инспекторском департаменте. Я согласился на его предложение, обещавшее мне гораздо скорейший успех, чем представление Дибичу, которого я только мог увидеть еще через <несколько дней>, т. е. в будущую пятницу, его приемный день. И точно, через 4 дня, 24 января 1829 года (день, который мне навсегда останется памятен), я был зачислен на службу его императорского величества в принца Оранского гусарский полк31, выбранный мной единственно по мундиру, ибо он лучший в армии (впоследствии я не мог раскаиваться в выборе оного), вольноопределяющимся до рассмотрения моих аттестатов и свидетельств о дворянстве. Окончив таким образом главное дело мое, занялся я обмундировкою и выполнением препоручений, мне данных, об разных покупках. Время шло чрезвычайно быстро. Окончив прогулки по лавкам и Невскому проспекту, я или ездил по родным, как, например, к Бегичевым, где я не мог не кокетничать с Анной Ивановной, хотя меня и бесило ее равнодушие ко мне (за целые пуки перьев, которые я для нее очинивал, я сбирал очень вежливую благодарность – но более ничего), или отправлялся к Анне Петровне, где уже и оставался весь день. Здесь зато любовные дела мои шли гораздо успешнее: Софья становилась с каждым днем нежнее, пламеннее, и ревность мужа, казалось, усиливала ее чувства. Совершенно от меня зависело увенчать его чело, но его самого я слишком много любил, чтобы так поступить с ним. Я ограничился наслаждением вечера, которые <!> я просиживал почти наедине с ней (Анна Петровна сидела больше с Андреем Ивановичем Дельвигом, юношей, начинавшим за ней волочиться)32, проводить в разговоре пламенным языком сладострастных осязаний33.
В прежнюю мою бытность в Петербурге еще собирались мы ехать за город кататься, но всё по разным причинам день ото дня откладывали гулянье. Наконец назначили день не настоящего катанья, а только пробы, пример парада, как говорил барон, и на двух лихих тройках, из которых на одну сел барон, Сомов, Анна Петровна и я, а на другую Софья, Щастный (молодой поэт)34 и Андрей Иванович. – Я, чтобы избежать подозрения, не хотел сесть с моей красавицей. По прекрасной дороге мы менее чем в полчаса примчались в Красный кабачок35, известный трактир на Петербургской дороге, где публика немецких ремесленников празднует свою масленицу. Там, под музыку венгерца, игравшего на арфе, которого аккомпанировал виртуоз на нескольких инструментах: скрипке, па́новой флейте36, барабане и других, – много мы танцовали и прыгали в большой и очень хорошо освещенной зале, где по воскресеньям даются балы. Софья нежно упрекала меня, зачем я не сел с нею в сани, не признавала достаточными причины, приводимые мною, а именно ревность ее мужа, и хотела, чтобы, по крайней мере назад ехав, я сел с нею. Что было делать? – я обещался. За чаем забавлял нас фокусник и не обижался, кажется, тем, что мало обращали внимания на его проворство. Несмотря на намерение веселиться, с которым мы поехали, настоящего веселья не послали нам боги. – Веселье – это непринужденная радость, почти всегда безусловная, – есть настоящий дар свыше; ее нельзя приготовить, и редко она является там, где ее ожидают; однако есть люди, владеющие даром приносить ее с собою в общество; такого любимца богов недоставало в нашем кругу, почему и мне бы было не очень весело, если бы не волокитство и надежда на обратный путь. Красный кабачок искони славится своими вафлями; в немецкую масленицу прежде весь Петербург, т. е. немцы и молодежь, каталися сюда, чтобы их есть, но ныниче это вывелось из обыкновения, катанье опустело, и хотя вафли всё еще те же, но ветреная мода не находит их уже столь вкусными, как прежде. – Нельзя нам было тоже не помянуть старину и не сделать честь достопримечательности места. Поужинав вафлями, мы отправились в обратный путь. – Софьи и мое тайное желание исполнилось: я сел с нею, третьим же был Сомов – нельзя лучшего, безвреднейшего товарища было пожелать. Он начал рассказами про дачи, мимо которых мы мчались (слишком скоро), занимать нас весьма кстати, потому что мне было совсем не до разговору. Ветр и клоками падающий снег заставлял каждого более закутывать нос, чем смотреть около себя. Я воспользовался этим: как будто от непогоды покрыл я и соседку моею широкой медвежьей шубою, так что она очутилась в моих объятьях, – но это не удовлетворило меня, – должно было извлечь всю возможную пользу из счастливого случая – и в первый раз ее ручка была заменою живейших наслаждений… Ах, если б знал почтенный Орест Михайлович, что подле него делалось и как слушали его описания садов, которые мелькали мимо нас.
С этого гулянья Софья совершенно предалась своей временной страсти и, почти забывая приличия, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастью, не училась она управлять. Мы не упускали ни одной удобной минуты для наслаждения – с женщиной труден только первый шаг, а потом она сама почти предупреждает роскошное воображение, всегда жаждущее нового сладострастия. Я не имел ее совершенно потому, что не хотел, – совесть не позволяла мне поступить так с человеком, каков барон, но несколько вечеров провел я наедине почти с нею (за Анной Петровной в другой комнате обыкновенно волочился Андрей Иванович Дельвиг), где я истощил мое воображение, придумывая новые сладострастрастрастия <!>.