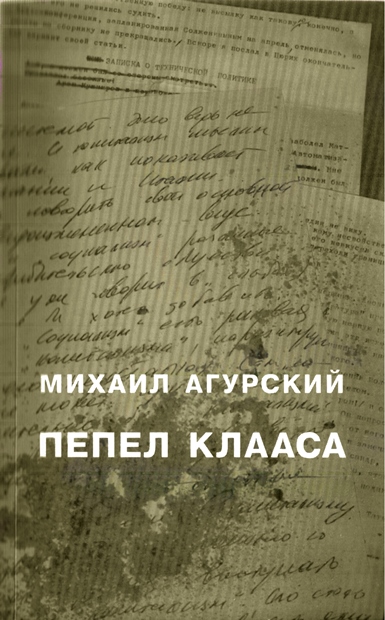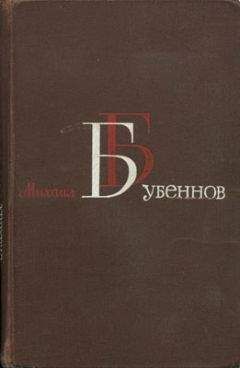С первых же дней я превратился в мишень антисемитских издевательств. Начало положил парень по фамилии Матвеев, ставший благодаря этому вожаком лагеря. Когда я сидел на плетне, он тихонько подтолкнул меня, и я больно упал на землю. Все стали ему подражать, норовя сделать мне гадость. Любой мой шаг вызывал насмешки и издевательства. Хотя вожатые это видели, они не только не вмешивались, но порой сами подзуживали детей. Жизнь моя в Белкино превратилась в сущий ад. После отбоя, когда дети уже лежали в постели, они вслух начинали рассказывать дикие антисемитские истории или же с гордостью хвастались тем, как они или их родители били евреев или же устраивали им гадости. Дети в лагере были в основном барачные. Во время этих рассказов кто-либо особо распалялся и подбегал ко мне, чтобы ударить подушкой.
Выручили меня два парня, взявшие меня под свое покровительство и старавшиеся всячески унять обидчиков, но они не были настолько сильны, чтобы все это полностью прекратить. Делали они это из чистого рыцарства. Одного из них звали Зотов, а другого — Юра Дуленков. Юра был сыном начальника отдела снабжения комбината. Этим парням было лет 15-16. Зотов с удивительной проницательностью стал объяснять: «Знаете, почему он вас не бьет? Не потому, что слабый. Ему просто жалко человека ударить». Это было совершенной правдой. Юра же не отставал от меня, вовлекая в беседы. У меня и в мыслях не было озлобиться на всех русских.
Единственным содержательным воспоминанием белкинского лагеря был поход к художнику Кончаловскому. Его дочка, поэтесса Наталья Кончаловская, была замужем за поэтом Михалковым, активным проповедником коммунистического образа жизни. У Кончаловского был огромный фруктовый и еще больший декоративный сад с фермою. За свою жизнь я видел много богатых домов в Европе, Америке, Южной Африке, и могу заверить, что Кончаловский и Михалков жили богаче многих миллионеров Палм-Бича или Иоганнесбурга. А ведь это было нищее время, когда народ продолжал умирать с голоду.
Так устраивалась элита в самом справедливом в мире обществе.
Пребывание в Белкино так травмировало меня, что одно упоминание о пионерлагерях приводило меня потом в содрогание. Много лет спустя я прочел «Повелителя мух» Голдинга. Право же, мир Белкина не был лучше мира «Повелителя мух». С тех пор я не верю слюнявым историям о детской беспорочности, в немалой степени идущей от доброго и наивного Януша Корчака. Детский мир, предоставленный самому себе, крайне жесток, и антисемитизм — лишь один из его модусов.
В то время как я подвергался издевательствам в Белкино, умирал мой отец...
Жизнь нам отдает приказ:
«Пусть всегда царит весна,
Смерть долой гоните с глаз,
Сейте жизни семена!»
Давид Гофштейн
Вернувшись в Павлодар, отец тут же написал просьбу о реабилитации, хотя термин «реабилитация» еще не существовал. Отослав письмо, он стал ждать ответа из Москвы. Сестры вновь приехали к нему, а он поселился у Павиных. Наконец пришла повестка из НКВД. Отец бросился писать матери письмо. Полное надежд, оно отражало его глубокое волнение. Он мечтал, как мы снова заживем вместе, забыв прежние страдания. На следующий день он получил отказ, и это его добило.
Это случилось в начале августа. Он стал выпивать, уединяясь на чердаке. Однажды сестры заметили, что он долго не спускается. Они поднялись посмотреть, в чем дело. Отец хрипел, на губах его была пена. У него был инсульт. Он старался показать им рукой на что-то. Сестры стали искать и нашли деньги. Быть может, и удалось бы его спасти, но по невежеству и халатности врачей и по неопытности сестер отца взвалили на подводу и повезли через весь город в больницу, что категорически запрещается делать при инсульте.
В больнице он и скончался 19 августа 1947 года.
За месяц до этого, когда я был один, еще до отъезда в лагерь, на Полянке появился невысокий пожилой человек в сером полотняном костюме и представился Давидом Гофштейном. Он хотел купить еврейскую пишущую машинку и Еврейскую энциклопедию, хранившиеся у нас. Но это была собственность отца, и никому в голову не пришло бы продавать их, так как, кто знает, не пригодились ли бы они ему еще в жизни. Гофштейн прямо на месте черкнул отцу записку:
«Привет Вам от Давида Гофштейна. Приятно было узнать, что Вы живы, здоровы, работаете упорно. Тов. Кантор мне указал, что я могу приобрести книги и Вашу машинку. Может быть, мы возобновим еще издательскую деятельность, и такие вещи, как еврейские книги и машинки, пригодятся. Будьте здоровы и бодры. Мы по-разному пережили эту войну, эту кошмарную страницу в истории нашего народа, но мы остались в живых, и нам надо думать о жизни. Всего Вам хорошего.
Давид Гофштейн (15 июля 1947 года)».
Как мало люди предвидят свою жизнь! Отцу оставалось жить только один месяц, и он, кстати, никогда не прочел этой записки, а Гофштейн через год был арестован и еще через четыре года — расстрелян.
Сегодня, когда я пишу эти строки, в Иерусалиме открывается памятник деятелям еврейской культуры, погибшим в период правления Сталина...
Отец немного не дожил до того, чтобы разделить судьбу Гофштейна.
Примерно через год отбывшие сроки заключенные, жившие в местах ссылок или же покинувшие их, были почти все снова арестованы. Если бы отец дожил до 1948 года, он несомненно разделил бы их участь: ведь он приехал из США. Что могло быть лучше для архитекторов еврейского дела? Но ангел смерти этого не допустил. Он взял душу отца, когда мера его земных страданий исполнилась.
Мать глубоко раскаивалась. Она безутешно плакала. Несомненно, и она была виновна в его преждевременной смерти. Рива, Геня и даже Израиль были подавлены. Геня вдруг стала говорить об отце так, будто бы между ними никогда ничего плохого не было.
Вскоре после этого на русском языке вышло новое издание «Тиля Уленшпигеля». Я много слышал об этой книге, она была у нас до войны, но тогда я ее не читал. И вот я накопил денег и купил ее. В каждой прочтенной книге есть места, которые сохраняются в памяти, в то время как все остальное забывается. Я запомнил из этой книги только одно, но это одно всегда вспыхивало в моем сознании в критические моменты моей жизни, заставляя менять жизненные решения, напоминая о том, что у меня есть в жизни своя особая роль, своя цель.
«Пепел Клааса стучит в мое сердце!» — так говорил