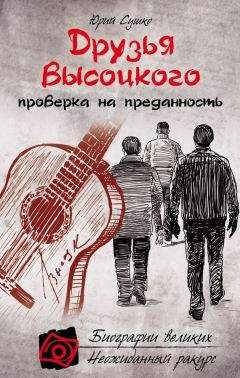По сюжету их герои – брат и сестра, по профессии оба актеры. Героиня к тому же наркоманка. В ходе репетиций Владимир ей натуралистично описывал, что она должна была чувствовать при «ломке», предостерегая и требуя ни в коем случае не прикасаться самой к этому зелью.
«О его пристрастии я знала и до этого: была единственным человеком в театре, посвященным в эту тайну. Вторым, кто знал, был его друг – поставщик наркотиков», – говорила Алла Сергеевна, вспоминая свои физические ощущения от того потока энергии, который бил из Высоцкого в «Гамлете»: «У меня поползли мурашки по телу. Я зашла за его спину – ничего нет. Опять перед ним – чувствую поток. И тогда стали с ним об этом говорить и вместе разбирать психическую энергию… И это я ему прощала, потому что я понимала, что это уже – конец… И его невозможно было остановить, как невозможно было остановить руками взлетающий самолет. Он сам понимал, что разобьется, но его влекло нечто более сильное, чем он сам…»
«Приподняв занавес за краешек», Демидова узнала, что «начал он с приема амфетамина, чтобы постоянно быть в тонусе. Тогда же амфетамин в любой аптеке можно было купить. Сначала по четверти таблетки принимал, потом больше и больше… Он ей как-то сказал: «Алла, я нашел лекарство, которое полностью перекрывает действие алкоголя». За несколько дней до его гибели она встретила его перед спектаклем вдрызг пьяного. «Володя, – заговорила Алла, – как же ты будешь играть?» А он ей в ответ пробурчал: «Как всегда». И вышел на сцену совершенно трезвым.
«Думаю, эта его болезнь, как и предыдущая, пьянство, – считала Демидова, – была ему нужна для другого. Эта зависимость формировала чувство вины. А оно позволяло играть с особенной трагической силой…»
* * *
…Как-то перед началом очередной репетиции «Игры», еще не полностью включившись в образ, болтая о разных пустяках, Алла вдруг неожиданно, в лоб спросила Высоцкого:
– Володя, ты хочешь Запад завоевать, как Россию?
Он очень быстро ответил: «Но здесь я уже все исчерпал!»
Гордившаяся своей интуицией, Алла Сергеевна, конечно же, подспудно осознавала, что, репетируя Уильямса, Высоцкий как бы примеряется, пробует силы, что «он потом перенесет мой рисунок на Марину. Я это понимала, и тем не менее я репетировала…».
С Мариной Влади у нее никогда не складывались отношения, хотя общались они много и часто. В театрах, в каких-то общих компаниях, на разных посиделках и приемах. Внешне все выглядело вполне благопристойно и по-дружески. Но холодок в общении, некоторая натянутость и, вполне возможно, скрытая ревность постоянно присутствовали.
Лишь однажды Алла искренне, до глубины души восхитилась самоотверженностью, преданностью и мужеством Марины, которая во время гастролей «Таганки» во Франции молнией примчалась из Парижа в Марсель спасать своего загулявшего «Волёдю». Она вспоминала: «Искали его всю ночь по городу, на рассвете нашли. Прилетела из Парижа Марина Влади, она одна имела власть над ним. Он спал под снотворным до вечернего «Гамлета», а мы репетировали новый вариант спектакля на случай, если Высоцкий не сможет выйти на сцену… Так гениально, как в тот вечер, Володя не играл эту роль никогда – ни до, ни после… Он был бледен как полотно… В интервалах между своими сценами прибегал в мою гримерную, ближайшую к кулисам, и его рвало в раковину сгустками крови. Марина, плача, руками выгребала это. Володя тогда мог умереть каждую секунду. Это знали мы. Это знала его жена. Это знал он сам – и выходил на сцену… Иначе Высоцкий не был бы Высоцким».
Но Алла Сергеевна всегда хранила в памяти неосторожно оброненную (может быть, в шутку) фразу Марины Влади в момент совершенно незначительной размолвки с мужем: «Да, Володя – не стена. Годы уходят – надо было выходить замуж за кого-нибудь другого…»
«Я люблю одиночество… Мне не нужен никто»
…Набережную Москвы-реки, возле «Балчуга», где после войны селили военных, местная детвора облюбовала как излюбленное место для своих шалостей. Тощая, слабенькая, да и еще с наследственным туберкулезом, Аллочка с азартом принимала участие во всех их играх, при этом ей очень хотелось быть первой, прыгнуть выше всех, пробежать быстрее других.
«Дети – жестокий народ, – потом уже с горечью осознала она. – Несоразмерность этого притязания и моих физических данных настолько раздражала других детей, что однажды они схватили меня за руки, за ноги и стали держать над рекой, грозя сбросить вниз. Я вернулась домой в истерике и перестала с ними дружить. С тех пор возненавидела коллектив».
Видимо, именно тогда в ней навсегда укоренился страх перед толпой, которому уже не суждено было исчезнуть. В ее представлении, «толпа тоже дракон. Когда в стае, управляемой вожаком, выплескиваются наши полузвериные ощущения, страшно. Светлого вожака у толпы, мне кажется, быть не может. Как люди сводятся в толпу – вот что интересно. Часто я вижу из окна эти сборища – то праздничные, то требующие чего-то… У них какое-то полурастительное восприятие мира. Без самосознания, без попытки вытащить себя из болота. Поэтому их инстинктивно тянет в коллектив… Сейчас, после того страшного пути, когда нас искусственно сбивали в коллективы – в пионеры, в комсомол, – у людей мало-мальски думающих должно возникать сопротивление коллективу. Это хорошо понимают в искусстве…»
Хотя театр – искусство коллективное, но Алла Демидова исхитрилась все три десятка лет работы на Таганке прожить, как она уничижительно выразилась, на обочине. Вроде приходила на репетиции. Отыгрывала спектакли и уходила. Хотя считала, что коллективное творчество вообще вредно, «потому что, как в любой большой семье, в театре-семье начинаются конфликты какие-то, какие-то недоразумения, которые надо все время выяснять, а я вообще никогда не выясняю отношения ни с кем: ни с близкими, ни с далекими».
Меньше всего ей хотелось от кого-либо зависеть: «Ладно, от пьяного партнера – сегодня он пьяный, завтра трезвый – это привычно. А вот от неподготовленного, у которого просто слова, слова…»
На Таганке, говорила Демидова, все они поначалу «слишком тесно жили и слишком были вровень по возрастам, по званиям и по всему». Но двух партнеров выделяла особо – Высоцкого и Золотухина. Только им можно было делать замечания, с ними можно было договариваться. По всей вероятности, оттого, что и у того и у другого абсолютный слух, оба – люди певческие, они очень хорошо чувствовали изменения интонации, тембра, быстроты речи.
Владимир Высоцкий мог играть вполсилы, иногда неудачно, но никогда не фальшивил ни в тоне, ни в реакции. А при этом – какая-то самосъедающая неудовлетворенность. И нечеловеческая работоспособность. Вечная напряженность, страсть, порыв…