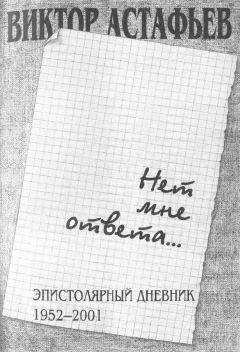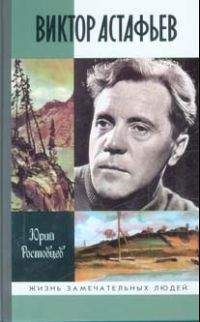Всего Вам доброго, главное — здоровья! Храни Вас Бог!
Кланяюсь, Виктор Астафьев
17 февраля 1997 г.
(В.Я.Курбатову)
Дорогой Валентин!
Писать-то мне особо не об чем. Нынешней зимой, занятый вознёй с собранием сочинений, я ничего не писал. Не готов. И не готов физически, только поработаю пером напряжённо, глядишь, начала неметь левая рука — сердце сигнал подаёт: «окстись, может и правая, рабочая, отняться». Но без дела не сидел. Спрос на меня всё ещё, к сожалению, не убывает, да и сам егозлив, побывал вот в колонии в женской строгого режима. Говорили часа три, думал перед встречей, угнетусь, ан нет, то ли привычка уже к лагерю, то ли в самом деле бабам там живётся лучше, чем на так называемой воле. Бывал и ещё кое-где, а перед Новым годом упал, и солидарно со мной упал в Курске Женя [Носов. — Сост.], в Москве брякнулся Саша Михайлов, оба сильно, как и я, расшиблись. И выходит, ежели вот ты не упадёшь, то и не друг ты мне вовсе. Да не надо даже ради дружбы падать, расшибленное тело и костяк болят невыносимо, кроме того, ты идёшь в искусстве по линии критики, значит, вёрток должен быть и эластичен.
Что из новостей? Печатаются и скоро выйдут два первых тома собрания сочинений, в Пензе в очень хорошем оформлении печатается книга «Плач по несбывшейся любви», состоящая из моих военных и околовоенных повестей и рассказов прежних, а причиной издания послужил «Обертон», который читающая масса, кажется, и не заметила. Ну, да бог с нею, с массой, она куда более важные вещи не замечает, а пошлость жрёт, как диабетики кашу, кастрюлями.
Некто Бушков — красноярский писатель и ныне богач — издал в прошлом году в столицах 11 книг, из которых я смог прочесть лишь два абзаца. Но у нас уже был поставлявший чтиво Алёша Черкасов, я ни одной его книги до конца прочитать не мог, но тот был тюрьмой ушиблен и уж не в себе пребывал, а этот сморчок держится орлом и презирает всю остальную публику, не желающую следовать по его славному пути.
Я ж, одержимый зудом чернильным, нет-нет и чего-нибудь напишу, на что-нибудь откликнусь. Вот поставили у нас оперу Верди «Бал-маскарад», а я её в Красноярске слушал в 1942 году в исполнении сбежавших и объединившихся в Сибири киевско-днепропетровско-одесских театров и, растрогавшись, очень хотел повспоминать. И повспоминал, и старые женщины мне звонили и говорили, что они читали и плакали. А тут и просьба томичей подошла, и тут уж я писал и сам плакал, как плачу всякий раз, глядя единственную на телевидении русскую передачу сибиряка Гены Заволокина «Играй, гармонь». Проплакавшись, я решил тряхнуть публику ещё раз и написал статейку к стихам Джеймса Клиффорда, ибо невыносимо много печатается в газетах и везде стихов занудных, вшивых, с претензией на нарядность или бодряческих виршей какого-нибудь отпетого соцреалиста. Выйдет газета — пришлю, а пока посылаю статью о языке, которая, я тоже знаю, как папиросный дым, послоится над головами русских людей, пощекочет их в носу и горле, да и кончится на этом её влияние, а ведь тоже писал — рука немела.
Кроме статьи, посылаю очень славную фотографию, которую собирался послать ещё осенью, но заложил в бумаги на столе и забыл. Ежели у тебя такая уже есть, отправь её тогда Леонарду [Постникову. — Сост.], а у меня всяческих фото много, и эта тебе нужнее для воспоминаний.
Вспоминая лето и встречу летнюю хороших людей, и задним числом почитая уже и историческую, а больше человеческую значимость её, хвалю себя за настойчивость и выдумку. Повторить всё это уже, по-моему, невозможно. В Дивногорске власть переменилась, и с прокоммунистическими деятелями я не только какие-либо дела делать не хочу, но и срать на огороде на одном не сяду. Вроде бы Миша Кураев нечто подобное затевает провести в Петербурге в конце мая. Бог даст — увидимся, тем более что 26 мая вручение Пушкинской премии, которую немцы тоже присудили мне, и ты небось об этом знаешь. Я могу из Москвы рвануть в Питер, буде буду здоров и не смоет нас тута половодьем. У нас выпало столько снегу, сколько не выпадало его с 1937 года, и ежели будет ранняя и дружная весна, а именно такую и обещают, то уплывём мы все в Ледовитый океан, а оттудова до Питера тоже — рукой подать.
Ну, вот графоман так графоман! Собирался черкнуть пару фраз и нате, разошёлся, но ты вроде бы разбираешь мои каракули, вот тебе и работа.
Главное, не хандри и не кисни, мы уж вон вовсе стариками становимся, М. С. болеет постоянно, и хронических у неё накопилась куча, ан ломает себя, работает, и я, глядя на неё, не сдаюсь. Пойдёшь в церковь, помолись за чусовлян и за нашу чусовскую дочерь, которую из-за снегов по грудь мы ныне зимой и навестить не можем. Но уж февраль к концу идёт, березняк забусел, горы днём синеют за рекою. Вытаем! Вытаем!
По Овсянке очень скучаю. Осенью вдогон конференции провели ещё юбилей — 390 лет селу, заложили часовню, и с тех пор я там и не бывал, и девчонки не едут и даже не звонят. Может, Марья их отшила. Марья сурова нравом сделалась, особливо к женскому роду, и тут уж ей не укажешь. Годы своё берут!
Ну, обнимаю, целую, поклон парням, жене. Обними и поцелуй маму — скажи: чусовляне велели. Преданно твой Виктор Петрович
25 февраля 1997
(И.А.Дедкову)
Ответ Игорю Дедкову (увы, уже вослед). Голова, где, нам кажется, сосредоточено всё лучшее, что имеет человек, и прямая кишка, где скапливаются и через которую выделяются отходы человечьи, болят у человека одинаково больно. Нет, не одинаково — голова болит как-то «вообще», она как бы изображает недомогание, и потому интеллигентную головную боль можно утешить порошком, мокрым полотенцем, льдом, снадобьями, а вот боль в прямой кишке груба, открыта, всегда остра, дика, невыносима, от неё защемляет сердце, от неё и голову не слышно — от неё только кричать, кусать губы, извиваться на постели, искать место, молить Господа о милости.
Вот я и кричу от грубой боли, не подбирая слов, не могу, неспособен их подбирать и терплю головную боль с 1943 года, со времени контузии, живу с нею, ношу её, работаю с нею или свыкнувшись с нею — только чтоб не добавилось ни капли сверх того, что есть, вот если добавляется (чаше всего внешними обстоятельствами и безжалостными людьми), тогда уж невыносимо.
Впрочем, и о второй, задней, грубой, боли Создатель позаботился, её я тоже имею и давно, причём произошла она у меня не от сидячего писательского труда, а от надсады. Опять же от надсады грубой: плыл на плоту по уральской горной реке Усьве домой, в город Чусовой, где тогда жил. Книжку первую мою ребята из Перми привезли, а я в леспромхозе в командировке от газеты был — и заторопился подержать мою драгоценность в руках, сколотил плот из сырых брёвен и заскочил с плотом в полуобсохший перехват на выходе из протоки. Плот не бросил — показалось, перехват короткий, а пришлось шестом поднимать и волочить его почти полкилометра.