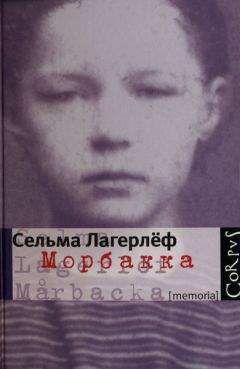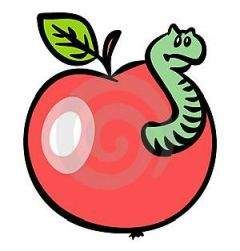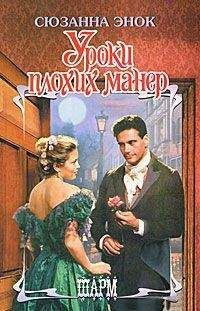— Скажите пожалуйста! — вставил г-н Тюберг, и девчушки в углу опять захихикали, а Барышня так глянула на них и на г-на Тюберга, что все трое испуганно притихли.
— Третий по возрасту — опять же мальчонка, которого назвали Ноем, — сказала Барышня. — Так вот он навострился ловить рыбу, семью пропитанием обеспечивать, за что мы с его маменькой очень его благодарили. Ной стал священником в Халланде и всю жизнь каждый год присылал родителям большущую бочку соленой лососины.
— Кстати, о лососине… — начал было поручик Лагерлёф, он хотел сказать, что пора бы доставить в дом новый бочонок лососины, но разве Барышню остановишь?
— За Ноем идет Сим, — продолжала она, — этот стал отменным охотником, под стать брату-рыболову. Видели бы вы, сколько глухарей да зайцев он приносил домой. Тоже на священника выучился и получил большой приход на юге, в Сконе. И каждую зиму присылал домой косулю, которую подстрелил сам.
Покончив с Симом, она перевела дух и огляделась вокруг. Но все покорно молчали, никто и не думал ее перебивать.
— После трех мальчиков родилась девочка, которую назвали Сарой, и я готова поклясться перед Богом и людьми, что в жизни не встречала этакого таланта по части засолки огурцов, приготовления варенья и сиропов. Только вот замуж она не вышла. Переехала в Стокгольм и вела хозяйство брата, того, что заделался придворным проповедником.
Следующая тоже девочка, — продолжала Барышня, — Ревекка. И признаться, я понимала ее куда хуже, чем других детей. С этаким светлым умом впору в священники податься, как братья, а вдобавок она стихи сочиняла. Народ сказывал, во всем краю никто так ловко не сочиняет колыбельные. Но замуж вышла, правда, всего-навсего за школьного учителя.
Тут рассказ прервали, горничная принесла свежесваренный кофе, и все потянулись за добавкой.
— Я вот думаю, не было ли среди детей такого, что умел бы сварить порядочную чашку кофе, — сказал поручик Лагерлёф.
— Вы опередили меня, поручик, — отозвалась Барышня. — Возможно, это покажется странным, однако ж самый большой талант по части стряпни был у четвертого мальчонки, Исака. Уж до того ловко и соус сбивал, и мясо жарил, что лучшего помощника у плиты подлинно не сыскать.
— А лучше всего небось кашу для малышей варил, — вставил г-н Тюберг.
По всей комнате, не только в уголке у печки, послышались смешки, одна г‑жа Лагерлёф осталась серьезна.
— Поразительная у вас память, барышня Анна, сколько вы всего помните, — сказала она, чтобы у старушенции не испортилось настроение.
Барышня вообще-то отличалась обидчивостью, но не тогда, когда удавалось поговорить о любимых ею пробстовых отпрысках. Тут ее ничем было не пронять. Хотя от Исака г-н Тюберг их все же избавил. Они так и не услышали, на что он употребил свои таланты.
— Следующие двое — близнецы, и назвали их Иаковом и Исавом, — сказала Барышня. — Похожи были один на другого как две капли воды, я их вовсе не различала. В жизни не видывала мальчуганов, которые этак ловко прыгали, скакали верхом и бегали на коньках, но они тоже стали священниками.
— А я думал, в канатоходцы подались, — проворчал поручик Лагерлёф.
— Нет, они стали священниками, — невозмутимо повторила Барышня. — Исав отправился в Емтланд, пришлось ему по горам лазить, Иаков попал в Бохуслен, мотался там на лодках да на кораблях. Обоим достались приходы под стать талантам, оба могли использовать дарованные Господом способности, как и их братья-сестры.
— Ну а как вышло с Иосифом? — полюбопытствовал поручик.
— Прежде идут две девочки, поручик, Рахиль и Лия, — по-прежнему невозмутимо отвечала Барышня. — Эти садовничали на славу, одна сажала да растила, другая сорняки выпалывала. Епископ, когда приезжал с проверкой, твердил, что в жизни не едал такого вкусного гороха и такой земляники. А это как раз заслуга Рахили да Лии. Обе за фабрикантов вышли. Вот теперь можно и про Иосифа рассказать.
— Он, поди, стал помещиком? — сказал поручик.
— Арендатором стал у отца, — сообщила Барышня, — хорошо заботился и о пашнях, и о коровах, снабжал провизией родителей и братьев-сестер.
— Разве же я думал иначе? — Поручик встал, прошел к двери, где повесил шляпу и трость, и, не говоря более ни слова, вышел вон.
— Тринадцатого звали Давид, — продолжала Барышня. — Этот был трижды женат и от каждой жены имел троих детей. Коли желаете, господа, могу поименно перечислить всех его жен и детей. Хотя, наверно, лучше продолжить про пробстовых отпрысков?
Конечно, все согласились, что это самое благоразумное, однако г‑же Лагерлёф подобная перспектива внушила изрядные опасения.
— Схожу-ка я за рукоделием, — сказала она, — так будет удобнее слушать.
По правде говоря, воротилась она с рукоделием не очень скоро.
— Четырнадцатой по порядку была девочка, Дебора.
Услужливая, милая, всегда мне с выпечкой помогала. Замуж не вышла, так и осталась дома. Надобно ведь матери пособить, за младшенькими приглядеть. Со странностями девушка. Иной раз говорила, будто по душе ей католическая вера, потому как не дозволяет она священникам жениться.
В эту минуту возле двери послышался негромкий стук. Г-н Тюберг умудрился тихонько, незаметно прошмыгнуть вон из комнаты, только дверь за ним хлопнула.
— Пятнадцатая — опять девочка, по имени Марта. Красивая, глаз не отвесть, но тоже маленько странная. В семнадцать лет вышла за пробста, которому уже шестьдесят два стукнуло, и ведь затем только, чтобы из дому уехать.
Тут Анна с Юханом встали. Дескать, надо за лампой сходить, темнеет уже. Однако и они воротились нескоро.
— Шестнадцатую звали Марией, — рассказывала Барышня. — Красотой она не отличалась и говорила, что ни священник, ни помещик замуж ее не возьмут, но дома она нипочем не останется. Вот и вышла за крестьянского работника.
Мамзель Ловиса все это время так и сидела в углу дивана. Вообще-то она спала крепким сном, хотя Барышня ничего не заметила.
— Семнадцатой аккурат восемнадцать стукнуло, когда я распрощалась с пробстовой усадьбой. Она помогала матери писать письма всем братьям-сестрам, ведь в одиночку с этим нипочем не справиться.
Кто-то повернул снаружи дверную ручку, заглянул в щелку. Но сию же минуту дверь затворилась.
— Восемнадцатому только-только минуло пятнадцать, — продолжала Барышня, — а он уже объявил, что уедет в Америку, потому как не в состоянии валандаться с этакой уймой родни. А девятнадцатому и двадцатому, когда я видела их последний раз, было четырнадцать и тринадцать.
Едва она произнесла эти слова, вошли г‑жа Лагерлёф с вязанием и Анна с лампой, а мамзель Ловиса пробудилась.