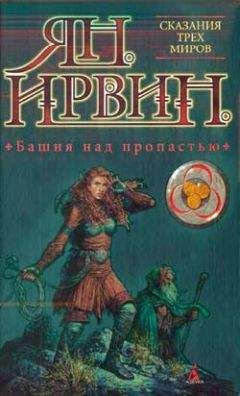фосфоресцирующей пленке, точно лапы птиц семейства голенастых. В штанишках я выходила на сцену уже не впервые. Например, в 1907 году, одетая пажом, танцевала партию Купидона в Мариинке в балете «Фиаметта» Артюра Сен-Леона на музыку Минкуса. Еще через год мне выпало покрасоваться в штанах-буффах, чтобы сыграть Медору, героиню «Корсара» – этот балет я подробно описываю в «Моей жизни».
Дягилев не выносил нелепых жизнеподобных костюмов для ролей животных и сразу же был очарован обликом, оригинальным и очень женственным, который для меня придумал Бакст. Одновременно и величавый, и воздушный, костюм был истинным шедевром, достойным музея, но какой пыткой было танцевать в нем! Ткани, расшитые перьями и жемчугами, царапали кожу; из-за веса украшений мои широкие прыжки теряли воздушность; держать голову очень мешал тяжелый головной убор. Уловив мое замешательство, Бакст согласился переделать костюм, особенно «прическу». Вот почему на фотографиях я запечатлена в одеждах, разнящихся от одного снимка к другому – в зависимости от дат и мест.
В самой первой версии из высокого плюмажа с перьями поднимались два изогнутых усика бабочки. На шею в три ряда спускались жемчужины – это было крепление, что-то вроде подбородного ремня. Шапочка другой версии, без жемчужин и усиков, просто украшенная перьями по бокам, устроила и Бакста, и Дягилева, и меня. Была еще, если мне не изменяет память, и переходная фаза, когда поверх темного трико я надевала отливающую разными цветами пачку из «Голубой птицы», восстановленной для «Пира» в сезон 1909 года, – к этому костюму полагался высокий головной убор с эгреткой. Общими для всех вариантов оставались две длинные белокурые косы в русском стиле, ниспадавшие до бедер. Фокину это очень нравилось. Косы были одновременно и свидетельством того, что балет – русский, и аллюзией на двух змей, убитых орлом Гарудой (один из прототипов моего персонажа), которыми он грозил, похваляясь непобедимой силой.
Вот в таком-то наряде, наряде Жар-птицы, и запечатлел меня для вечности Огюст Берт, официальный фотограф французского правительства, у себя в ателье в доме номер тридцать пять на бульваре Капуцинок. Говорю «для вечности» со смешанными чувствами сожаления и насмешки. Сегодня все в этих снимках кажется мне посмешищем: простодушная раскраска фона, моя преувеличенно широкая улыбка, тот «экспериментальный ящик», задуманный и сконструированный самим Бертом, в котором я, ослепленная прямым освещением, должна была часами стоять в одной позе. И все-таки даже после того, как Дягилев отверг Берта, предпочтя ему других фотографов для продвижения своего дела, магия «Русских балетов» никогда больше не была передана так ярко.
Бакст с Головиным работали очень быстро – так же быстро, как Стравинский писал музыку. Либретто сварганили за пару недель. Вся «Птица» задумывалась и готовилась в жуткой спешке, и в этом, быть может, разгадка ее связности и энергетики. Как будто Стравинский, Головин, Бакст и Фокин – все это был один-единственный актер.
Репетиции начались в апреле 1910-го в Петербурге, в маленьком зальчике на Екатерининском канале. Чувствовали мы себя стесненно, ибо «Птица» требовала множества участников, но непринужденная, почти наэлектризованная атмосфера веселья свидетельствовала о том, что мы затеяли проект необыкновенный. Фотограф Александров заснял сценки, которые я бы позабыла без этих свидетельств: Фокин, уже лысеющий, в двухцветных мокасинах, в полосатой куртке, раздает распоряжения с вошедшей у него в привычку нервозностью; столовая, где танцовщики и техработники собрались наскоро перекусить; девушки, еще не сбросившие балетных туфель, но уже накинувшие пуловеры поверх танцевальных костюмов. Нам давали теплое миндальное молоко с хрустящими марципанами; этот вкус я помню до сих пор.
Перевезти спектакль в Париж оказалось делом непростым. Декорации и костюмы едва уместились в четырнадцать вагонов поезда. Я, хотя и весьма воодушевленная мыслью танцевать на сцене парижской Оперы, с грустью вспомнила родную Мариинку. Полы в Опере скрипели – это повергало Дягилева в страшную ярость, ибо на представлениях он больше всего опасался посторонних шумов на сцене. По его мнению, балерина, танцуя, должна быть такой же тихой, как падающий снег. Более того, дощечки, положенные неровно, и щелястый пол представляли для нас опасность; колосники, машинерия – все заржавело и запылилось. В таких условиях буйные фантазии Фокина оказывались невозможными, и это меня утешало, поскольку я опасалась выступать, прикрепленная на нитях. В дирекции мне так и заявили:
– Если вам угодно летать, то все риски и опасности останутся на вашей совести.
Этот мой предполагаемый выход, столь же зрелищный, сколь и забавный, был заменен целым рядом последовательных прыжков, тщательно мною исполненных. Они дали мне возможность продемонстрировать благородную возвышенность и техническое умение, унаследованные от моего отца.
Еще была проблема с лошадьми, белой и черной, символизировавшими день и ночь, – они должны были пройти по сцене. Дягилев, что и говорить, любил поразвлечь публику зрелищем настоящих животных на сцене. Бенуа мудро предложил заменить их одним всадником, медленно двигающимся по просцениуму, и такая строгость оказалась более впечатляющей, нежели эпатажно-буржуазный реализм. Когда балет восстанавливали в 1920-м, Дягилев, уступив тогдашним вкусам, придумал сцену, в которой появлялся солдат во фригийском колпаке, размахивавший красным знаменем революции! И большевика, и знамя быстренько из спектакля удалили. Шиншилла снова взялся за свои потешные причуды в 1926-м, когда, отвергнув Бакста и послушавшись новую соратницу, художницу Наталью Гончарову, согласился, чтобы золотые яблоки на дереве из первой картины превратились во второй в церковные купола!
Премьера «Жар-птицы» состоялась 25 июня 1910 года с Фокиным в роли Ивана-царевича; Царевну танцевала его жена, Вера. Она станцевала наилучшим образом, но уже на следующий день случился инцидент, едва не сорвавший весь вечер. Перед самым началом спектакля французские рабочие сцены подняли бунт за кулисами, и Шиншилле пришлось доверить сложное освещение одному человеку – режиссеру Григорьеву. Поэтому вышло так, что при поднятии занавеса сцена оказалась в странной, непредвиденной подсветке – это Григорьев по ошибке включил все юпитеры одновременно!
Зато когда занавес наконец опустился – мы уже знали, что «Жар-птице» суждено стать триумфом и остаться в анналах «Русских балетов». Зал вибрировал (опять на ум приходит только одно это слово), казалось, он сотрясается от аплодисментов. Зрители вставали, наклонялись вперед, будто околдованные сценой, выкрикивали что-то восторженное. Я видела, как рыдают женщины. Сколько раз нас вызывали? Уже не вспомню. Ошеломленная, задыхающаяся, я проскочила к себе в артистическую. Следом за мной сразу вошел Дягилев – стучать в дверь было не в его правилах.
– Тата, – прошептал он мне почти в слезах, – я влюбился.
Я не ответила. Это было только начало долгих и бурных отношений – не любовных (Шиншилла на всю жизнь останется извращенцем), зато нежных, почти отеческих, отмеченных полнейшим доверием и взаимным восхищением. Я была обязана ему всем и знала