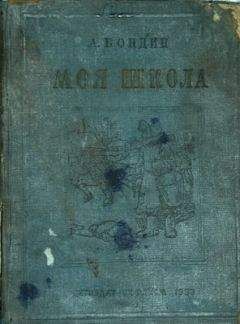— Давайте, ребята, читать.
Он любил читать Некрасова. В классе тишина, мы с затаенным дыханием слушаем его задушевный голос.
…Ну, саврасушка, трогай,
Натягивай крепче гужи.
Служил ты хозяину много,
Последний разок послужи…
Эти слова пробуждают во мне жутковатый трепет и какие-то новые чувства.
В классе тишина. Слышно, как в стекло бьется и жужжит муха да кто-то осторожно шаркает ногой.
После этих уроков я уходил домой притихший, погруженный в свои думы.
Я тихонько иду узким переулком. Дует холодный ветер, мутные хлопья облаков осыпают землю густой кисеей снежной пыли. Я не чувствую холода и не замечаю сыпучего снега. В мыслях у меня — прочитанная некрасовская поэма «Мороз красный нос». В сумке у меня — книга, взятая из школьной библиотеки. Её выбирал сам Петр Фотиевич, С этих пор в мое сердце и вошла любовь к книжке, и поселилась она там, ласковая, приветливая.
Если уроки Петра Фотиевича и Алексея Ивановича быстро усваивались нами, то уроки попа вмещались в нашей памяти с большим трудом. Ванюшка Денисов часто говорил словами евангелия:
— Легче в-верблюду пр-пройти в иг-игольные уши, чем выучить ур-оки по закону божшо бг-бг-батьке.
К нам приходил тот же поп — отец Александр Сахаров, — который бывал в приюте. Он рассказывал на уроках то же, что я слышал раньше. Только здесь каждый из нас должен был знать всё на-зубок.
Учить притчи о слепорожденных, о Лазаре не хотелось. Часто половина класса приходила, не выучив урока.
Но мы узнали слабые стороны попа. Обычно перед уроком дежурный вставал на стул и, подняв вверх руку, восстанавливал тишину.
— Кто знает урок по закону, подними руку! Поднималось рук пять-шесть.
— Говорим, ребята, про кержаков, — предлагал дежурный.
— Говорим.
— Идет! Кто начнет?
— Я! — вызывался кто-нибудь.
— Идет!
Приходил поп. Мы чинно вставали на молитву, добросовестно молились и садились. Поп гладил свою бороду. Вдруг кто-нибудь поднимал руку. Поп строго спрашивал:
— Чего тебе?
Ученик вставал и, улыбаясь, говорил:
— Батюшка, а почему кержаки не ходят в нашу церковь?
Поп сразу веселел, вставал и начинал с увлечением рассказывать о кержаках. Мы слушали, поддакивали, а поп с еще большим воодушевлением рассказывал про раскольников, стариц, живущих в скитах, их подставных богородиц, кержацких попов.
Раз пришла моя очередь задавать вопрос. Поп был в этот день особенно весело настроен. Он пришел в новой темносиней люстриновой рясе.
Я поднял руку.
— Чего тебе?
— Батюшка, я вчера ходил на могилу к отцу Иову[3]и смотрел, как там молятся.
— Ну, это туда, к Голому Камню, на ихнее мольбище?
— Да.
— Ну, и что же?
— Ну, там я видел каких-то кликуш.
— Кликуш?
— Ага… А потом они молились, молились да принялись обедать. Потом — опять…
— Ну, ну! — зажигаясь желанием говорить о кержаках, улыбнулся поп.
— Кликуши-то больно уж смешно… А они почему так кличут?
— Гм, почему? Известно, почему. Показывают, что на них снизошел дух свят… — насмешливо пояснил поп. — Садись!
Я сел, а поп встал и долго и пространно начал рассказывать о том, как молятся кержаки.
Он принялся широко креститься кержацким крестом, свирепо закидывая руку чуть не на затылок, и гнусаво начал читать:
— Се предста ми множество лукавых духов, держаще моих грехов написание, и зовут зело дерзостне…
В классе поднялся дружный, раскатистый смех.
— А бабешка-кликуша разве что понимает, о чем там читает ихний поп? Хлещет земные поклоны к месту и не к месту. А потом как заорет на все мольбище: «Ах!.. Ах!..»
Отец Александр вскинул руки вверх. Рукава его рясы смешно болтались.
Мы снова охвачены неудержимым приступом смеха. Поп был похож на сумасшедшего. Он широко разинул рот, волосы его всклокочились, ряса расстегнулась, из-под неё желтел подрясник. Встав в позу, пол фистулил, каркал, как ворона, которая подавилась:
— Ах!.. Ах!.. Низошел!.. Низошел!.. Свят дух!.. Низошел!..
Здесь уже представление дошло до высшего предела. Лицо попа покраснело, глаза налились слезами, брови вскинулись, а на лбу выступил обильный крупный пот. Подобрав свою рясу, как юбку, он вместе с рясой прихватил брюки, и мы увидели его чулки и розовые тиковые подштанники. Он крутился, подскакивал и кричал всё той же фистулой:
— Ах!.. Низошел!.. Дух… свят… Низошел!..
Хохот ребят перешел в протяжный гул. Особенно уморительно хохотал Ванюшка Денисов, поджимая живот:
— Аха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а! Ихи-хи-хи-хи-и-и-и-и-ой!
Дверь приоткрылась. В ней показалась плешивая голова сторожа Никифора.
Он испуганно посмотрел на попа, потом улыбнулся бородатым лицом и торопливо скрылся.
В коридоре серебристой струйкой пролился звонок. Это Никифор возвестил об окончании урока.
Отец Александр встал. Он задохся, точно вбежал на гору. Оправил рясу, пригладил волосы и хвастливо сказал:
— Вот они, кержаки-то как. Разве это моленье? Дурь!
Потом уже, серьезный и полный достоинства, взял подмышку журнал и, направляясь к выходу, проговорил:
— Что у нас там? Притча о слепорожденном? Повторите!
Никифор, улыбаясь, вошел к нам и спросил:
— Чего это, ребята, с батькой-то случилось?
— Показывал, как у кержаков кликуши кличут.
— Ишь ты!.. А по-моему, он просто выпил сегодня… Будто и не знают без него кержаков. Сходи в молельну к Красильниковым, посмотри. Всё на виду.
По праздникам нам приказывали утром являться в школу. Там выстраивали нас рядами по-двое и вели в церковь.
Мой брат пел в соборном хоре. Весной он привел меня в маленькую приходскую школу, где у соборных певчих были спевки, и передал меня регенту.
Регент — черный, как жук, высокий тощий человек — взял скрипку и, водя смычком по струнам, сказал:
— Ну-ка, тяни?
Я тянул.
— Правильно. У тебя альт.
Черные огромные усы регента сердито пошевелились.
Я любил ходить вечерами на спевки. Мы собирались раньше и в церковной ограде играли в застукалки — в прятки.
Раньше всех приходил регент. Он чертил на классной доске пять линеек и писал ноты, поясняя:
— Это — до, это — ре, а это — ми. — Вписывал крючки, черточки: — Это — пауза… Это — тутти, а это — форшлаг.
Потом, ударяя о руку камертон, он подносил его к правому уху и, прищуривая один глаз, задавал тон неприятным голосом:
— Ре-е… си-и… соль… — Приказывал: — Тяните!