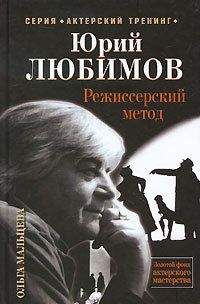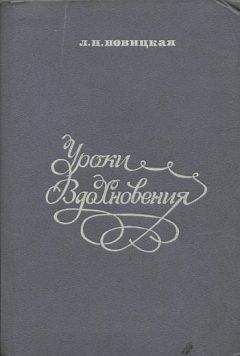Я гордился родителями, которые были как бы посвящены в искусство, видели Собинова в фантастической атмосфере оперного спектакля «в простом пиджаке». То, что Собинов или Нежданова могли быть в пиджаках, в обыкновенных платьях, идти по улице, сидеть за столом, балагурить, поражало мое воображение. Меня и теперь волнует, когда я вижу шляпу и трость Чайковского, пенсне Чехова, подсвечник Глинки. Меня даже волнует выставленный в витрине костюм Ленского — Лемешева, хотя в этом костюме артист пел в моем спектакле, выполнял мои мизансцены. Но этот костюм — свидетель тысячи волнений (как взвесить те миллиарды различных переживаний, которые приходится в течение жизни претерпеть артисту?!), радостных и печальных.
Некоторое «обожествление» артиста, да и Большого театра, я чувствую, осталось у меня и сейчас, а деловые отношения, производство, повседневность и привычки живут отдельно, обособленно. Жаль, однако, что второе захватывает все большую территорию души и для первого остается места все меньше и меньше…
И вот я в квартире у Николая Семеновича в Брюсовском переулке (теперь улица Неждановой). Звонок телефона: «..да, он у меня. А почему я должен был говорить?… Приходите… захватите сыр, он у вас в холодильнике…» Через несколько минут из своей квартиры приходит Антонина Васильевна с тарелкой, на ней кусочки сыра. Садимся пить чай. О чем шла речь — не помню. Пишу только о том, что поразило воображение, что фиксировала память. Только об этом! Я сижу за столом с «настоящей» Неждановой» и ем (ем осторожно!) ее сыр.
Антонина Васильевна была общительна и простодушна, простодушна в великом понимании этого слова. В ней была масса обаяния и очарования во всем, даже в мелочах и «промашках». «У нее замечательный голос, — говорит она о певице, сидя со мной в ложе во время сцены письма из «Евгения Онегина», — жаль, что чувствуется грузинский акцент!» В это время и я начинаю думать, что у певицы грузинский акцент, хотя точно знаю, что грузинская фамилия у нее по мужу, а в девичестве она Сковородкина. «Она замечательно поет, — сказала Нежданова о другой певице, — и такая молоденькая, прямо девочка, но разве можно петь арию Джильды без свечи? Мы всегда пели со свечой!» Мне тут же представлялась влюбленная девушка со свечкой и казалось, что это прелестно.
Все знают, что певцам нельзя во время «сезона» есть мороженое. Увидев на приеме группу певцов, поедающих мороженое, она подошла и строго сказала смутившимся артистам, что певцам вредно есть мороженое, если его… чуть-чуть не запивать коньячком!
Нет нужды писать об искусстве Неждановой, об этом много писали специалисты. Но мог ли я утаить на этих страницах урок естественности и простоты, художественного чутья и расположения к людям, жизнерадостности и полного отсутствия демонстрации своего «значения», который давала всем, кто был рядом с нею, эта Великая Певица.
Да, говоря о Голованове, грех не вспомнить об Антонине Васильевне. Мы должны быть благодарны ему за заботы, предпринятые им во имя сохранения имени великой русской певицы в памяти потомков. Улицы Неждановой в Москве и Одессе, Зал имени Неждановой в Большом театре, мемориальная доска на ее доме, творческий кабинет в ее бывшей квартире, — во все это вложены его труд и хлопоты.
…Выходя из 16-го подъезда Большого театра, я словно воочию вижу идущего с палочкой Николая Семеновича. Он протягивает мне чуть одутловатую руку, она покрыта коричневыми пятнышками. Я видел эту руку, крепко державшую дирижерскую палочку, а теперь она сжимает приказ об освобождении его от работы в Большом театре…
После Голованова очередь дошла до Мелик-Пашаева. Собственно говоря, другой, равной кандидатуры просто не было, и назначение это никого не удивило. А как сам Александр Шамильевич? С одной стороны, он, как любой из нас, был не чужд желания «покрасоваться», с другой — понимал, что кроме него за это дело взяться некому, а с третьей — ужас как не хотелось ему влезать во всевозможные дрязги, отвечать за все, в чем не виноват, что ему не интересно, что далеко от его любимого дела — музыки.
Судьба в Большом театре была у него завидная. Он всегда был равен первому, пользовался вниманием и Самосуда, и Пазовского, и Голованова. Вне зависимости от личных расположений, был уважаем всеми «главными».
Самосуд: Это может только Мелик-Пашаев.
Пазовский: Дирижировать «Кармен», как Александр Шамильевич, мне так и не удалось.
Голованов: Не трогайте Мелика!
А он, как встал почти мальчиком за пульт Большого театра, продирижировав «Аиду» всем на удивление, так и остался на высшей точке дирижерского искусства. К тому времени, когда его назначили «главным», я хорошо знал его, нас связали самые лучшие и доверительные отношения. Я уже был главным режиссером театра и как бы приобретал нового коллегу.
Наше знакомство, однако, началось несколько натянуто и церемонно. Перед постановкой «Евгения Онегина» нам полагалось встретиться. Мы не знали друг друга, и сначала, как каждую знаменитость, я Мелик-Пашаева остерегался. Он тоже мог прослышать в Куйбышеве разное по поводу начала моей работы в Москве. Пришел он на первую встречу этаким «фертом» — в клетчатом костюме с цветком в петлице, чем еще больше меня напугал. У него был клавир и намерение «проработать» со мною «Онегина», дать мне «указания» (уж не просил ли его об этом Пазовский?), ввести в курс дела, направить, договориться, выяснить все «проблемы» — словом, проделать ту работу, что на первый взгляд кажется важной и обязательной для дирижера и режиссера перед совместной постановкой, а впоследствии оказывается бессмысленной, ненужной.
Александр Шамильевич сел за пианино и стал играть, я — слушать. Сначала все шло хорошо, но потом, где-то в конце квартета, ему стало скучно и невмоготу морочить себе и мне голову. Посмотрев на меня, он сказал что-то вроде того, что, дескать, вы и сами это знаете, и… закрыл клавир. Мы подружились и о музыке больше никогда не говорили. Ставили спектакли и в процессе репетиций настраивали свои столь разные «инструменты» музицирования на единый лад. Не есть ли это главное в подготовке спектакля? Не есть ли умение «в рабочем порядке» понять, вернее, почувствовать художественные намерения друг друга и на них отозваться — важнейшее условие создания гармонического спектакля. А договориться?.. Это лишь мечта дилетантов, хорошо звучащая только в книжках пустозвонов.
Дирижерское дарование Александра Шамильевича было уникальным. Безусловно, он был бесподобен в так называемом «западноевропейском» репертуаре. Его «Аида», «Кармен», «Фальстаф», «Фиделио» — подлинные шедевры. Но, будучи «вышкой дирижерского искусства» в Большом театре, он должен был дирижировать и операми русского репертуара. Здесь он был на уровне своего вкуса и высокого профессионализма, однако… Самосуд дирижировал «Пиковую даму» вдохновеннее, Голованов «Садко» — могущественнее, Пазовский «Ивана Сусанина» — мудрее. Но когда на гастролях в Ереване Мелик-Пашаеву пришлось заменить заболевшего коллегу в «Севильском цирюльнике», это превратилось в событие, о котором долго говорили в театре.