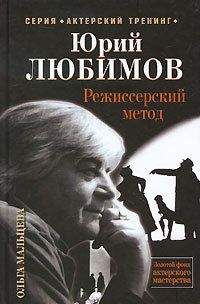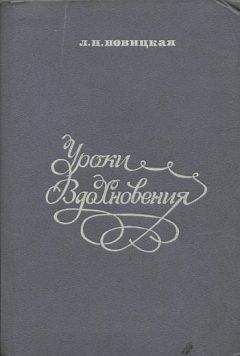Александр Шамильевич был осторожен, ему очень не хотелось оказаться среди тех, кто не принял в хор молодого Шаляпина, кто предсказывал опере «Евгений Онегин» скорое и прочное забвение, кто издевательски уничтожал режиссуру Станиславского в «Пиковой даме», кто… Увы, список этот грозит быть куда длиннее, чем прорицание добра. «Радость безмерная!» Стасова имеет не так много аналогов.[29]
Быть может, эти размышления коснулись меня под влиянием долгих разговоров с Мелик-Пашаевым. Но странно, что вместе с сомнениями приходило ощущение не ущербности, а некоей свободы в проявлении личного мнения, право на утверждение после поисков, а не по известному установленному стандарту.
«Колебания», «неуверенность» нужны художнику как благоприятная атмосфера или микроклимат для развития его творчества. Они по закону парадокса не связывают, а раскрепощают его. Здесь недалеко и еще до одной проблемы в нашей жизни и работе. О ней говорил Пушкин в письме П. А. Катенину: «…ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли».
В таких «размышлениях», естественно, нам все более и более докучало руководство театром, требующее, как нам казалось, по всем вопросам немедленной «резолюции». Отсюда развивались наши сомнения в правомерности художественной «диктатуры» в таком театре, как Большой. Почему, говорили мы себе, не могли работать в театре одновременно и Самосуд, и Голованов, и Пазовский? Из-за того, что нужна была «диктатура», а стало быть, ответственность за огромный творческий организм одного? Почему не могут «ужиться» на сцене Большого театра Федоровский, Дмитриев, Вильямс? Не является ли художественный вкус одного при этих обстоятельствах ограничением для творчества других? Не заключается ли уникальность Большого театра в многоплановости его искусства, а масштабность — в способности объединить многообразие почерков? И, наконец, не является ли единственным критерием работника Большого театра его высокий художественный уровень? А может быть, частая смена руководителей есть свидетельство неправомерности конструкции руководства Большого театра?
Долго и упорно обсуждая эти проблемы, мы решили обнародовать свои идеи, предложив иную систему руководства театром, при которой лишь личный художественный авторитет должен был осуществлять влияние на творческий уровень и профиль деятельности коллектива, проще говоря, речь шла об уничтожении института «главных».
Письмо в соответствующие руководящие организации было пространным и подписано не только мною и Мелик-Пашаевым, но и главным балетмейстером театра Лавровским, разделявшим наши соображения.
Идеи нашего заявления не нашли поддержки. Почему? Вероятно, посмотрели на вещи с позиций более реальных и деловых, чем делали это мы. «Кто же будет персонально отвечать за Большой театр?» — спросили нас.
В результате многих дебатов решили провести частичный эксперимент — уничтожили должность главного режиссера. Эксперимент не удался, и через год не без серьезной критики в мой адрес («Не дезертирство ли это?», — указывая на меня, гневно шумел Николай Павлович Охлопков) коллегия Министерства культуры без рассуждений восстановила меня в должности главного режиссера.
Охлопков хорошо меня знал еще по ГИТИСу. Он был членом коллегии Министерства культуры СССР и, сидя на заседании, посвященном работе Большого театра, рядом со мною, обменивался шутливыми замечаниями. Ничто не предвещало грозы. Когда слово предоставили ему, он, встав на председательское место, произнес против моего ухода с поста «главного» уничтожающую речь. Он краснел, бледнел, называл меня «неблагодарным изменником и дезертиром». Он клеймил меня позором, голос его грохотал в респектабельном зале коллегии министерства. Потом он, мгновенно успокоившись, снова сел со мною рядом и дружески пнув меня ногой, шепнул: «Довольно дурака валять». Самобытный человек был Николай Павлович! «Хватит, отдохнули!», — обнимая меня, сказал Александр Шамильевич, который к тому времени, «отбушевавшись», смирился со своим положением «главного».
Все это рассказываю не только как эпизод из нашей с Александром Шамильевичем жизни, но потому, что волновавший нас тогда сложный вопрос руководства Большим театром стоит и по сей день. Я хорошо понимаю, как решительно влияет личность руководителя в сравнительно небольшом театральном коллективе. Но Большой театр не похож по своей структуре, задачам и возможностям на обычный театральный организм. Он — воплощение культуры народа в духовном отношении и огромное производство в административном, вернее, организационном смысле. Время и опыт доказали, что один человек или даже небольшая группа не в силах поворачивать руль этого огромного корабля. Да, художественное влияние личности на курс его движения весьма ощутимо. Но самым убедительным и действенным рулем в художественном руководстве в данных условиях является творческий пример, доказательство, факт, результат.
Здесь не место развивать эту не очень простую проблему, однако отмечу, что передо мною она со всей определенностью встала в связи с «сомнениями» Мелик-Пашаева, возможно и под его влиянием.
Отношения у нас с Александром Шамильевичем сложились предельно искренние. Нельзя сказать, что мы были похожи характерами, но нас связывали взаимное уважение и доверие, наконец, заинтересованность друг в друге. Это доверие определяло тот организационный покой, который так нужен для нормальной работы. Александр Шамильевич был из тех людей, которые не любили «лезть на рожон», предпочитал при случае отойти в сторонку, однако, всегда оставался при своем мнении. В «административном» отношении последние годы он совершенно сознательно и открыто весь процесс создания спектакля предоставил режиссеру. Он как, бы отгородился от «сценической части», надеясь, что режиссер найдет выразительные средства, обеспечивающие художественное единство спектакля. Мне, как видно, это удавалось, а потому, часто встречаясь и беседуя «о разных разностях», я замечал, как спокоен мой «первый артист». Разве что в шутку, перед началом работы над новым спектаклем он спросит: «Сколько раз артист в этом спектакле будет стоять ко мне спиной?»
Он был деликатен, считал, что сцена — исключительно мое дело, все больше и больше отстранялся от этой части работы, уходя в «чистую музыку». Он явно побаивался всякого рода затруднений в руководстве спектаклем.
А руководил он великолепно. Благожелательность к артисту и стремление увлечь всех музыкальным движением спектакля без единого «белого пятна», без пустого, незаполненного, формально исполненного такта (несмотря на то что он был не чужд некоторых пластических преувеличений, рисовки, которые строго корректировались вкусом) — это и делало его спектакли захватывающими и значительными. Вообще дирижирование для него было всегда важным событием в жизни, он не мог дирижировать между прочим, посматривая в ложу, на часы или изучая недостатки декораций. Самое важное дело в жизни! И это чувствовалось всегда.