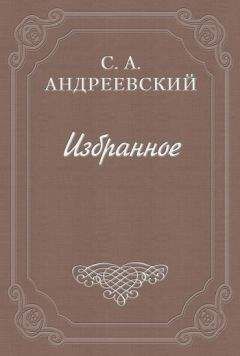И вот, с другой стороны, я склонен приравнять эту описанную мне худощавую пожилую даму в ватерпруфе туристки, ко всем прочим путешественникам ее возраста, пережившим всяческие разочарования когда-то заманчивой жизни.
Точно так же и любимого поэта императрицы – Гейне – я готов признать не более как за даровитого и жалкого еврея, имевшего только счастливый случай «поведать миру» о своей душе, еврея тощего и беспомощного в своих недугах, как и все другие люди, – раздражительного, как все писатели, – и вот понемногу тускнеет тот ореол, которым я окружаю в своем воображении эти все фигуры, – и передо мною, из тысячи моих воспоминаний, возникают другие лица обоего пола, достойные удивления и, быть может, восторга, – лица, решительно никому неведомые, бесследно исчезнувшие, – и опять меня заливает волна духовного анархизма. И опять все люди – все крошки – все мелькнувшие в этом мире отдельные создания – мне кажутся равно великими.
1898 г.* * *
Какая прелесть, при довольстве жизнью, навещать могилы знаменитых людей! Вообразите себя молодым, счастливым, да еще, пожалуй, в обществе хорошенькой и любимой женщины, – например, в Париже, во Дворце Инвалидов, перед саркофагом Наполеона 1-го или на кладбище Пер-Лашез, возле памятника Мюссе, – или в России, в селе Тарханах Пензенской губернии, в часовне, где погребен Лермонтов, или в церкви Спасского села Раненбургского уезда перед гробницей Скобелева. При входе вас обдает величием. Привлекательная тень встает пред вами такою, какою она некогда шевельнула ваше сердце и воображение. Вы умиляетесь перед ее благородным вечным спокойствием. Но вы при этом забываете, что вас только щекочет радость вашего собственного бытия! Вас пленяет лишь высокий строй вашей живой мысли; ваш ум играет, ваша фантазия преподносит вам тонкий десерт безотчетных и упоительных мечтаний. Вы знаете, что сейчас вы уйдете отсюда и пред вами засверкает солнце, что вы будете говорить и слушать, думать и двигаться, что у вас, про себя, таятся еще разные надежды на счастие в будущем… Вы уйдете, а кости останутся на своем месте: эти кости не всегда внушают такие думы случайным посетителям. Эти кости лежат в своем ящике неимоверно глупо. Возле них живет ленивый сторож. Когда нет публики, он подметает дорожку, проветривает церковь, склеп и часовню, и ворчит, и коротает свои серые будни. А солнце золотит пыль свежего воздуха, и звуки недоступной жизни гудят издалека вокруг бесчувственной, узкой, наполненной серым прахом и несколькими косточками могилы. Жутко и скучно, а еще хуже, если на памятнике вырежут какое-нибудь изречение, какой-нибудь стих погребенного. Уж наверное, каждый посетитель пробормочет вырезанные слова, – на могиле Мюссе: «Mes chers amis! Quand je mourrai…»[2], или на монументе Некрасова: «Сейте разумное, доброе, вечное». Что, если покойники одарены тайным слухом? Какие проклятия посылают они своим случайно сказанным словам за этот вечный попрек посетителей, за их неумение сказать что-либо, кроме этих мучительно опротивевших, всегда тех же самых слов покоящегося под этим камнем писателя!.. Праздные мысли! Но что делать? Все мы так жалко созданы, что невольно смотрим на смерть с точки зрения жизни.
* * *
У Майкова сказано, будто смерть лишь тем страшна для нас, что нам все кажется, что мы не совсем, не разом умрем и что мы будем видеть свой труп, улыбку неподвижных губ, глаза с тупым зрачком и мух, ползающих по лицу, и содрогания родных, которые от нас отойдут в испуге, и что даже из земли сырой наш слух будет следить за резвою земною жизнью, и что между тем, как придет весна и запестреет луг, червь уже нападет на нас и будет нам поедать бока и щеки…
«Но, смертный, знай, – утешает поэт, – твой тщетен страх:
Ведь на своих похоронах
Не будешь зритель ты!
Ведь вместе с дружеской толпой
Не будешь плакать над собой
И класть на гроб цветы;
По смерти стал ты вне тревог;
Ты стал загадкою, как Бог, —
И вдруг душа твоя
Как радость встретила покой, —
Какого в жизни нет земной – покой небытия!»
Какое ничтожное и фальшивое утешение! Каким образом, спрашивается, душа встретит покой небытия с радостью? Ведь до последней секунды душа не будет знать, что именно она встретит, а когда затем наступит «небытие», то уже ровно ничего не будет, а следовательно, не будет и радости… Или – «На своих похоронах Не будешь зритель ты!» Да что же из этого? Если это и действительно так, то разве при жизни мы не знаем с самою ужасающею достоверностью, какой именно вид мы будем иметь на своих похоронах? И разве в одном этом сознании не заключается уже страдания самого живого, глубокого и ничем неустранимого?! Я знаю наверное, что умру. И когда я умру, то, быть может, еще в первую секунду (едва уловимую) моим близким померещится, что я испытал радость облегчения. Но уже в следующую секунду они испытают отчаяние. Они будут ходить, говорить между собою, будут видеть вокруг себя всевозможные домашние предметы и в то же время внутренне содрогаться от сознания, что все это потеряло для меня всякое значение, навсегда. Навсегда! – это слово – как страшный молот, пришибет их мысль… Откуда-нибудь взглянет на них мой портрет, где-нибудь между бумагами мелькнет мой почерк, и тогда все это покажется им непонятным призраком, угнетающим их до безумия! И они станут с растерзанною душою сожалеть меня. И я уже теперь страдаю от этого сожаления…
Между тем мое тело (якобы вкусившее радость покоя) возбудит в них новые, с каждым часом возрастающие страдания. Некоторая ничтожная теплота кожи и первая обманчивая естественность прижизненных очертаний – все это быстро исчезнет. Обмоют и начнут одевать меня – новые мучения! Сюртук или фрак, – в них я был живым, был в них одет, когда ездил в театр (что такое театр?!), делал визиты (что такое визиты?!), произносил речи (неужели я мог это делать?!) – и теперь эти одежды нужно будет натягивать на тупую неподвижную куклу. Сапоги… нельзя надеть их! И вот, башмаки – глупые гробовщические башмаки, столь чуждые воспоминанию обо мне – какие-то мягкие лодки, какой-то безличный товар, – вот что потребуется теперь для моих ног. А самые ноги? ступни? Разве в них теперь не сквозит уже лучистый веер костей?.. А затем – холод тела, чернота, одеревенелость и главное – лед, – лед там, где была мысль, – лед до самых мельчайших внутренних сосудов… Лед и мрак!.. И я опять страдаю заранее от этого страха и сожаления всех живых…
Но пройдут сутки, и на моем лице, на моем лбу, вокруг моих глаз и носа, на моих щеках и в очертаниях моей челюсти, на всем этом обозначится «печать смерти», – да, именно «печать» в том самом смысле, как прилагают свою печать люди, т. е. обозначится казенный и однообразный вензель или герб смерти: череп!..