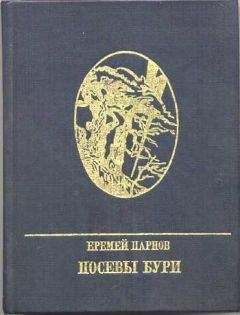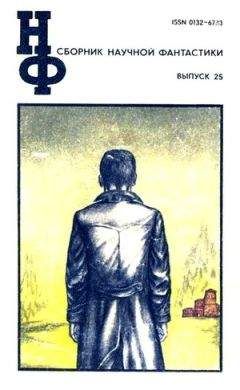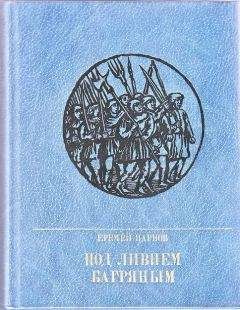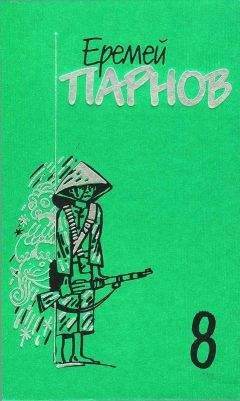— Полностью разделяю ваше справедливое негодование, дорогие коллеги. Вам угодно знать имя? Извольте! Сергей Юльевич Витте! В бытность мою в Петерсбурхе я сам слышал из его уст это ужасающее циничное высказывание. Чего же вы хотите теперь? Чего ожидаете?
— Имения поджигаются повсеместно, — деликатно заметил бородач в голубом мундире жандармского корпуса.
— Мне нет дела до других, — жестко отрезал Фитингоф Первый. — Если обленившиеся «бояр де рюс» могут мириться с тем, что чернь поджигает родовые гнезда, — это их частное дело. Но мы не потерпим разорения балтийских вековых цитаделей!
— Брат совершенно прав, — обер-лейтенант вермахта щелкнул под столом каблуками. — Русское дворянство само заражено либеральной скверной и пожинает новые плоды собственной распущенности. Надеюсь, мы не чета им? В Пруссии совершенно иные порядки.
— Знаем мы эти порядки! — впервые за все время подал голос Рупперт. — Социал-демократы в рейхстагах заседают! Мне брат рассказывал…
— В самом деле, господа, — заволновался Медем, — не надо сравнений. Зачем эти рискованные аналогии, сопоставления? — Он просительно огляделся вокруг. — Как верный слуга монарха, я вижу свой долг в том, чтобы всемерно укреплять законность, порядок, священное право собственности. Можно лишь сожалеть о том, что наши братья в Германии дают убежище и приют злоумышленникам, которые подтачивают государственные устои обеих держав. Но не станем смешивать воедино беду и вину. Подумаем лучше о том, как оградить нашу Россию, и прежде всего губернии Восточного моря, от потока нелегальщины, от зловредной социал-демократической агитации.
— Конкретные меры — вот что нам сейчас необходимо, — глубокомысленно изрек Остен-Сакен.
— Добиться полного обновления в губернском правлении! — потребовал Фитингоф Первый. — Радикально, по-кавалерийски, раз и навсегда. Пусть нами командуют люди, которым мы доверяем, из нашей среды.
— Зачем выдвигать заведомо нереалистические прожекты? — раздраженно передернул плечами Ливен. — Мы должны научиться мыслить в масштабах всей империи. Только в этом я вижу ключ к решению местных проблем. Будем же исходить из той реальности, какая сложилась ныне при дворе, в Правительствующем сенате, министерстве внутренних дел, наконец…
— Возвращаясь к тому, о чем хотел сказать ранее, пока меня не прервали, — постучав портсигаром о хрустальный бокал, Медем призвал к вниманию, — позволю себе вновь заметить, что мы забываем о главнейшей нашей обязанности — возделывать землю. О вреде, который мы принесли сами себе, позволив развить здесь индустрию, спорить не приходится. Но и этим не исчерпывается наша недальновидность. Кто, как не мы, хозяева балтийских марок, вложили факел в руки поджигателей? — Краем глаза граф глянул на Остен-Сакена. — Стоит ли винить во всем ваших батраков, милый барон?
— Объяснитесь, Конрад, прошу вас — Остен-Сакен недоуменно поднял брови. — Что за неуместные шутки! У меня сгорело больше чем на полмиллиона!
— Загляните в ваши батрацкие, устройте там хорошенький полицейский обыск, и вы поймете, что к чему! Лично я собрал целую коллекцию из прокламаций эсдековских, эсеровских, меньшевистских, большевистских газетенок. Не надо было учить холопов грамоте, — отчеканил Медем и отвернулся.
— Реформация была ошибкой. — Рупперт повторил понравившуюся ему фразу брата Александра. — Лютер научил чернь читать Библию.
— Ого! — Медем с интересом взглянул на хозяина замка. — Вот уж не думал, граф, что вас интересуют такие тонкости. Католичество есть единственно пригодная для мужика вера. Мы потеряли орден, неразумно переменили религию, боюсь, что и сейчас нас влечет неуправляемый рок.
— Вы всегда поражали меня способностью парадоксально мыслить, — сказал Ливен. — Совершенно верно, католицизм, реформация и грамотность наших крестьян — факты, уже никому не подвластные. Сосредоточим же усилия на том рубеже, где изменения еще возможны.
— Позвольте мне, господа, — прервал тяжелое молчание единственный среди присутствующих пастор в черном, идеально отутюженном таларе и накрахмаленном воротничке. — Кажется, это в моей компетенции.
— Прошу, ваше преподобие, — Ливен сделал приглашающий жест. — Надеюсь, господа, вы все знакомы с нашим выдающимся ученым, членом-корреспондентом Императорской Академии наук пастором Билленштейном.
— Как председатель общества «Друзей латышской культуры», — пастор с достоинством огляделся и, собираясь с мыслями, пригладил седые виски, — я люблю здешний трудолюбивый народ. Мы в ответе за него перед господом, ибо приобщили его к семье цивилизованных народов. «Hier stehe ich. Ich kann nich anders».[9] Сожаления о реформации, о святых истинах, открывшихся простолюдинам в строках божественной книги, неуместны, господа, и, простите, кощунственны. Латыши разбаловались? Так надо их приструнить. Очень просто. Никаких особых проблем. Но боже упаси вас, господа, поддаться соблазну отпустить вожжи.
— Конкретнее, ваше преподобие, — перебил его Ливен, недовольный нравоучением. — Не надо путать политику с богословием. Я стою за то, чтобы служитель культа говорил на языке своей паствы. Иначе конфликт неизбежен.
— Истинная правда, — подтвердил Билленштейн. — Мне довелось не только научиться латышскому языку, но и раскрыть перед всем миром тихую красоту простонародных ремесел.
— Вы приятное исключение из правила, — двусмысленно бросил Ливен.
— Благодарю, фюрст. — Пастор сделал вид, что принял комплимент за чистую монету. — Можно только посетовать, что не везде существует гармония между пастырем и приходом. Но не дай бог идти навстречу требованиям смутьянов! Вы не отдаете себе отчета, господа, что скрывается за их домогательствами. Думаете, они искренне просят пасторов-латышей?
— Просят? — Фитингоф-гусар ударил кулаком по столу так, что зазвенело стекло. — Они требуют! Бунтуют! Нам с братом очень дорого обошлись религиозные споры. Вся кирха вместе с Вальтером того не стоит.
— Понимаю вашу досаду, — терпеливо продолжал пастор. — Невзирая на тяжесть урона, вы правильно поступили, что не поддались шантажу. Латышский народ в целом покорен и добр, но паршивые овцы грозят перепортить все стадо. Не пастырь им нужен, а кирха без пастыря. По наущению террористов-комитетчиков, они возмечтали превратить наши церкви в красные клубы, в конвенты, где можно будет открыто проводить богохульные, опасные для общественного спокойствия собрания. Позвольте мне прочесть вам один мерзкий опус. — Он надел очки в стальной оправе и вынул из жилетного кармана сложенный вчетверо листок. — Извините за выражение, стихи. Я перевел это с латышского специально для вас.