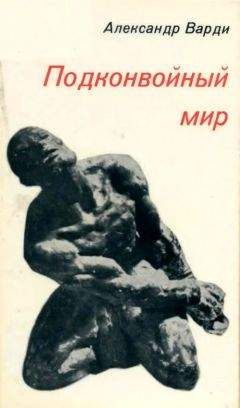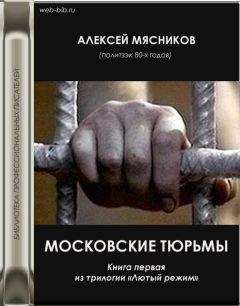— Чуют, — догадывался Шубин, — что человек катится под ноги: «так топчи его, иначе тебя затопчут», «сегодня ты, а завтра я», «умри ты сегодня, а я завтра». Жизнь беспощадна и правду давно поймали, «хором» изнасиловали и сушить вверх ногами повесили.
— Почему меня одного вытолкнули на работу, а остальных посадили? — раздумывал Шубин. — Если Хоружий хочет представить меня доносчиком — это плохо. А, может быть, хотят какую-либо пакость на работе подстроить? Вредительство приписать? Диверсию сочинить? Провокацию подстроить?
Поделиться, посоветоваться было не с кем. Всех друзей забрали: Пивоварова, Хатанзейского, даже трепача Шестакова.
— Другим не до тебя, — соображал Шубин, — своя боль у каждого и недоверие к тебе и еще: злость, презрение, ненависть. Сомневаться в подлости другого наивно. Слишком много кругом подлости, и значит, обязательно много подлецов — проводников, инициаторов, подстрекателей, носителей скверны.
На работе обычная горячка неотложных дел и забот захлестнула Шубина. Подавленный, разбитый и утомленный он выполнял всё-таки свои обязанности как всегда: разъяснял товарищам сложные чертежи и схемы, дочерчивал детали, устранял ошибки конструкторов, технологов и одновременно работал как слесарь на сборке машин.
Во время обеденного перерыва пришел к Шубину доброжелательный сочувствующий Ярви. Шубин рассказал ему все. Видел: рядом доверяющий ему человек.
13Работу закончили в сумерки. Долго собирались на пятачке за вахтой. Молоденький затурканный начальник конвоя бесконечно сбивался со счета. Наконец погнали сгорбленную колонну во тьму.
В пути, под вой ветра, хорошо думалось. Пытаясь отвлечься от внутренней боли, Шубин перебирал в памяти былое. Вспоминалась почему-то последняя встреча с московским следователем подполковником Короткиным. Последний допрос.
В тот поздний вечер Короткин, вопреки обыкновению не бушевал. Сытый, утомленный он пытался даже острить.
— Посылаем тебя, Хаим, на север, — миролюбиво ворковал Короткин. — Отбудешь срок, а потом в пожизненной ссылке останешься. Там, брат, племена героически вымирают от бытового сифилиса, родственных и ранних браков. Плевая малость того народу осталась. Ползают яловые бабёнки как сытые вши. Греху много, а толку мало.
— Так ты там, Хаим, похлопочи, — издевался Короткин. — Парень ты горячих кровей, обхождение знаешь, глаз с огоньком, грудь колесом и как дубок весь в корень вырос. То, что бабенки те от роду не мыты, к сердцу не принимай. То, что ворванью от них воняет как из ассенизационного колодца — внимания не обращай. Красуля тамошняя прежде чем сапоги меховые зашьёт — хорошенько сапог тот заношенный, вонючий во рту жует — для размягчения швов, иначе иглу не проткнёшь. Так ты, Хаим, потом рот тот целуй. Надо ж вам ассимилироваться, от торгашеской своей нации избавиться. Вот вам и избавление, поправка ваших кровей.
Бабенка в долгу не останется. Как только придет час обеденный, так она — хвать миску, из которой только что собаки жрали, и ласково промурлычит: «знам, яврей чисто любит» и поэтому плюнет она в миску пару раз со всей своей душевностью, разотрет тот плевок грязным своим подолом и под нос тебе тую миску поставит. «Нюхай, мол, душевный друг, псиный дух, переходи в нашу веру сифилисную».
Ни забот тебе, ни хлопот. Ракетой мчит судьба на погост, а там, сам знаешь, жисть райская, парящая, утешная. Всем мученикам крылышки на спину и пропеллер в зад пристраивают. Летай себе — «в звезды врезываясь» как наш Маяковский советовал.
Отгоняя от себя видение злорадно оскаленной морды московского пытателя, Шубин зашептал первые пришедшие на ум строчки стихов:
«Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах…».
— Где это было? А… вспомнил. Под деревней Федоровкой, на берегу Бахмутки. Засела там рота немцев. Генерал, балбес, Лопаткин сам приезжал гнать наш 898 полк на штурм Федоровки. По десять раз в сутки без артподготовки, во весь рост по белому открытому полю, на верный убой. Так и не взял полк Федоровки. Лёг костьми и не одолел семидесяти автоматчиков. Там был я «от смерти четыре шага», даже ближе: лицом к лицу со старухой из-за безмозглости беспощадного всевластного кретина.
Колонна заключенных шла по высокой железнодорожной насыпи. Слева и справа круто срывались вниз откосы.
Шубин, шагавший крайним в своей шеренге, почувствовал вдруг удар сзади в бок и сильный толчок, сбивающий с ног, выбрасывающий из колонны под откос.
— Вот зачем оттирали меня на край, — вспыхнуло в уме Шубина.
Он упал на скользкий крутой гладкий откос. Тщетно пытался пальцами, ломающимися ногтями зацепиться за оледеневшую, почти отвесную поверхность. Отчаянный крик невольно вырвался из глубины, крик нестерпимой душевной боли, обиды, призыва к совести людской.
Дрогнула и остановилась безликая колонна. Слух каждого полоснул этот крик. Люди ощутили, что это последний всплеск жизни, рвущейся из глубины. И сразу же по катившемуся вдоль откоса телу грянули длинные очереди. Спущенные с цепей разъяренные псы вгрызлись в горло…
Огромная багровая луна только что высунула из-за фиолетовой тундровой дали раскаленную лысину. С холодным любопытством всматривалась она в остановившийся черный человеческий зрачек, в котором только что отражался весь необъятный мир и теплилась доверчивая любовь к людям.
14Хоружему не удалось завершить внесение личного вклада в широко развернутую чекистами кампанию фабрикации местных судилищ над «пособниками банды врачей вредителей».
Накануне опубликования правительственного сообщения о провале дела «кремлевских врачей — Хоружему пришлось, по директиве свыше, выпустить из карцера друзей Шубина.
Перепуганные сталинские последыши оказались вынужденными сползать на тормозах с наиболее безумных ненавистных народу позиций режима.
15В день освобождения из карцера истощенных, избитых, измученных «пособников кремлевских врачей-шпионов» выгнали на работу. Журина и Пивоварова вернули на завод в сталеплавильное отделение, в котором Журин опять стал сталеваром, а Пивоваров — дежурным электриком подстанции. Домбровского послали в кипятилку к Джойсу, с которым он успел подружиться. Хатанзейский продолжал слесарничать в сборочном цехе, где перед смертью работал Шубин. Бегун присоединился к своей дорожной бригаде. Круглякова понизили в должности: был он браковщиком-контролером в цехе металлоконструкций, а стал рядовым такелажником. Шестаков вернулся в инструментальный цех, а Солдатов опять сел за руль автопогрузчика.