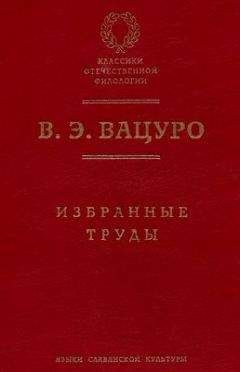Любопытная вариация этой элегии — у Бестужева-Марлинского («Финляндия», 1829), с той же темой «водопада»:
Я видел вас, граниты вековые,
Финляндии угрюмое чело…
Там силой вод пробитые громады
Задвинули порогом пенный ад,
И в бездну их крутятся водопады,
Гремучие, как воющий набат;
Им вторит гул, жилец пещеры дальней,
Как тяжкий млат по адской наковальне.
Далее Бестужев вводит тему «наводнения»:
Я видел вас! Бушующее море
Вздымалося в губительный потоп
И, мощное, в неодолимом споре,
Дробилося о крепость ваших стоп…
Было бы соблазнительно усмотреть отзвуки этого стихотворения в «Олешкевиче», где есть некоторые совпадающие детали (например, тема ударов молота, сопровождающих наводнение), — но оно было напечатано в «Сыне отечества» анонимно уже после отъезда Мицкевича из Петербурга[1309]. Мы не знаем, попало ли оно в поле зрения Мицкевича и получил ли он сведения об авторе, о котором вспоминал уже за границей в стихотворении «Русским друзьям». Интересующий же нас образ мог быть и вариацией строк державинского «Водопада»:
Стук слышен млатов по ветрам,
Визг пил и стон мехов подъемных.
Вернемся, однако, к сборнику Баратынского. Второе стихотворение в нем — «Водопад» — продолжает «финскую тему»:
Шуми, шуми, с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!..
Как очарованный, стою
Над дымной бездною твоею…
(с. 7)
Существенно, что все эти стихи имплицируют тему преследования и изгнанничества, которая наполнялась для Мицкевича, знавшего биографию Баратынского, совершенно конкретным содержанием. Ассоциация с «тиранией» возникала естественно.
В «Буре» (заканчивающей первую книгу «Элегий») Баратынский намечает тему бунта волн.
Вторая книга завершается «Отъездом», где мотив изгнанничества дан экс-плиционно и вновь наложен на пейзажную картину с упоминанием водопада:
В воображеньи край изгнанья
Последует за мной:
И камней мшистые громады,
И вид полей нагих,
И вековые водопады,
И шум yгрюмый их!
(с. 28)
Раздел «Смесь» вновь возвращает читателя к теме Финляндии и изгнанничества. Он открывается «Посланием к барону Дельвигу»:
И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.
(с. 46)
Все эти стихи для внимательного читателя сборника составляли своего рода контекст с обширным кругом внутритекстовых и внетекстовых ассоциаций, в котором читалась образная система интересующей нас «Надписи», уже не наполненной прямым автобиографическим смыслом[1310]. Заметим, что образ оледеневшего водопада в литературном кругу Баратынского возник задолго до его «финских» стихов. Так, в стихотворении Дельвига «К Лилете (зимой)», относящемся, видимо, еще к периоду Лицея и неизданном, неизвестном Мицкевичу, но несомненно известном Баратынскому, читаем:
Грустный, стою над рекой, смотрю на угрюмую сосну,
Вслушиваюсь в водопад; но он во льдинах висит,
Грозной зимой пригвожденный к диким безмолвным гранитам…[1311]
В «Надписи» («Взгляни на лик холодный сей…») образ получил новое семантическое наполнение. В стихах Мицкевича он реципировал целый круг новых ассоциативных значений и превратился в символическое или, скорее, аллегорическое обозначение того комплекса образов и идей, которые организовали художественное целое «русских сцен» — III части «Дзядов»[1312]. Он включился в центральную художественную тему «зимы», предстающую в разнообразных модификациях: снег, сплошь покрывший мертвые равнины («Дорога в Россию»), лед, сковавший реку («Олешкевич»), и т. д. Семантика образа корреспондирует с заключительным пророчеством в «Олешкевиче», о котором мы мельком упомянули выше: «Я слышу — там! вихри уже подняли головы Из полярных льдов, словно морские чудовища, Уже сделали себе крылья из грозовых туч, Воссели на волны, сняли их оковы; я слышу! уже морская пучина разнуздана, Брыкается и грызет ледяные удила, уже поднимает влажную шею до облаков; Уже… Еще одна, [только] одна сдерживает [ее] цепь; скоро ее раскуют, — я слышу удары молотов…» (ст. 133–141). Здесь имплицирована художественная тема освобождающегося коня; эксплицитно дана тема освобождающейся стихии. В концовке «Памятника Петра Великого» — обратные отношения: остановленный конь и остановленный поток; то и иное — искусственно, и пророчество Олешкевича, намечающее грядущую катастрофу, которая ждет скованную деспотизмом Россию, в конечном счете заложено и в «Памятнике…», только здесь освобождение должна принести не стихия, а западный ветер (также аллегория!), несущий «тепло свободы». Политическая концепция (неприемлемая ни для Пушкина, ни для Баратынского) здесь очевидна; менее очевидна, хотя также несомненна контрастная игра динамическими и статическими образами, создающими оппозицию: зима, мороз, лед — угнетение, деспотизм, омертвляющее, статическое начало; с другой стороны, волны, ветер, солнце — свобода, революция, динамика, стремление, жизнь. Скованный льдом водопад в этой системе поэтических понятий приобретает особую выразительность: здесь воедино слиты статика и динамика, потенциальное стремление и реальное омертвление, причем сиюминутная реальность чревата надеждой на освобождение. Любопытно, что на ином уровне поэтического обобщения эта система поэтических представлений будет воспринята и Пушкиным, хотя и с иной семантикой, — достаточно напомнить известную работу Р. Якобсона, где мотив «оживающей статуи», в частности в «Медном всаднике», исследован с точки зрения оппозиций динамики и статики[1313].
Что же касается образа, непосредственно восходящего к стихам Баратынского, то он был замечен русскими поэтами и существовал в литературном сознании довольно долго. Его вариацию мы находим, например, в письме Лермонтова С. А. Бахметевой, написанном из Петербурга в августе 1832 г.: «И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но на самом деле мертвее, чем когда-нибудь»[1314]. В этом письме — прямая парафраза известной уже нам строки Баратынского «храня движенья вид», отнесенная к другому в генетическом и функциональном отношении образу, о котором нам также пришлось уже упоминать. В историко-стилистическом смысле эта перекличка Лермонтова и Мицкевича любопытна, в частности потому, что не стоит одиноко: исследователями уже отмечались случаи творческих соприкосновений поэтов, отправлявшихся от общих литературных источников[1315].