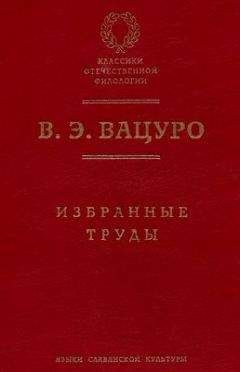«Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шел один ты с мыслию великой, И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою»[1320].
Для Пушкина этот факт был показателем низкого уровня культурного самосознания современного общества, о чем он писал неоднократно, — подробнее всего в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года. «…Наша общественная жизнь — грустная вещь»; в ней царит «равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине», «циничное презрение к человеческой мысли и достоинству»[1321]. Именно этот взгляд на общество в целом приводил его к убеждению, что в России «правительство всегда… впереди на поприще образованности и просвещения» и что «народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно»[1322].
Он сделал попытку описать феномен «полупросвещения», которым, по его мысли, страдает и значительная часть образованного общества. «Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему…»[1323].
Тридцатью годами позднее, в середине шестидесятых годов, в эпоху значительно большей демократизации общества, с бесконечно возросшей ролью общественного мнения, Некрасов с беспощадностью обрушивался на массовое, уже политизированное, сознание. «У нас неуважение к уму Сильней неуважения к закону» — записывает он в черновых набросках «Медвежьей охоты», — а в тексте вкладывает в уста представителю культурной генерации «сороковых годов» целую инвективу против «русского общественного мненья», отмечая в нем прежде всего коллективную агрессивность («на нем предательства печать И непонятного злорадства»). С «преданиями рабства» связывал он практику единодушных апофеозов победителей и столь же единодушных осуждений «неудач», которые в его изображении предстают почти как проявления стадного инстинкта:
«Сперва — сторонников полки, Восторг почти России целой, Потом — усталость; наконец Все настороже, все в тревоге, И покидается боец Почти один на полдороге…»
Его изображение «постыдных оргий» преследования играет памфлетными красками: общество «сторожит неудачу» с каким-то «зловещим тактом» и находит удовольствие самоутверждения в коллективных «облавах»:
«Как мы вертим хвостом лукаво, Как мы уходим величаво В скорлупку пошлости своей! Как негодуем, как клевещем, Как ретроградам рукоплещем, Как выдаем своих друзей! Какие слышатся аккорды в постыдной оргии тогда» и т. д.[1324]
Эти примеры выбраны почти наудачу, из разных эпох эволюции общественной психологии русского девятнадцатого века. Свидетельства подобного рода можно умножить во много раз, пока не создастся целостная картина русского общества глазами лучших его представителей. При этом было бы непростительной наивностью полагать, что все эти негативные стороны свойственны только русскому массовому сознанию. Знаменитая книга Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», вышедшая в 1929 году и глубоко поразившая европейскую мысль, описывала сущностные черты европейца XX столетия почти в тех же категориях. Дон Ортега писал о «человеке-массе», вкладывая в это понятие не столько социальный, сколько культурологический смысл; он анализировал самый феномен «массового сознания» — не производящего, а воспроизводящего заимствованные мыслительные стереотипы, нетерпимого к чужому мнению, агрессивного и претендующего на абсолютную истину и на всеобщее господство. Продукт цивилизации, «человек-масса» был, согласно Ортеге, носителем современного варварства. Философа обвиняли в аристократическом высокомерии, — но здесь было или лукавство, или непонимание, ибо он имел в виду не сельского или городского труженика, а политика и идеолога, навязывающего всему обществу нормы своего мышления и поведения. В большевизме и фашизме он видел крайние полюсы активности «человека-массы», подчинившего себе весь европейский мир.
Мы можем теперь вернуться к исходному пункту наших рассуждений и произвести мыслительный эксперимент, представив себе историческое лицо в этой среде, в ее системе ценностей, с ее критериями нравственных, исторических, культурологических оценок. Чем значительнее это лицо, тем естественнее ждать его отторжения в силу своего рода социальной ксенофобии, присущей описанному сознанию. Отторжение будет проходить, по-видимому, в весьма агрессивных формах, предполагающих как вариант полное отрицание за критикуемым каких-либо заслуг. Исторические обоснования критики будут скорее всего опираться на концепции линейного прогресса, ибо основной точкой отсчета для «человека-массы» является он сам, — и потому он непоколебимо убежден в «прогрессивности» именно тех сил, которые вывели его на социальный верх.
Иными словами, он почти неизбежно продуцирует ту самую концепцию, которая сейчас является наиболее распространенным объяснением политической судьбы Горбачева.
* * *
«Массовое сознание», как его определяли Ортега-и-Гассет и русские наблюдатели от Чаадаева до Чернышевского и далее, есть, конечно, абстракция, пользоваться которой можно только в ограниченных пределах. Тем не менее без учета его нельзя понять социальных репутаций культурных и общественных деятелей; репутации же эти далеко не всегда тождественны их объективной исторической роли. Здесь возникает неизбежно и проблема культурных генераций, каждая из которых вырабатывает и свои варианты индивидуального поведения, и свои типы их общественного осмысления. Феномен взаимного непонимания поколений был с позиций просветительского сознания описан еще Грибоедовым в «Горе от ума»; в шестидесятые годы XIX века он предстал социальным наблюдателям как взаимоотношения «отцов и детей». Историческое сознание, утверждая свои принципы, все более подвергало ревизии просветительскую метафизическую оценочность и дидактизм, заставляя признать, что мировоззрение «отцов» не есть отклонение от естественных норм существования общества, как иной раз склонны считать «дети», — но некоторая внутренне целостная система, способная вызвать у потомков нечто вроде ностальгического чувства. Так, М. О. Гершензон, историк и философ, полностью принадлежавший эпохе «философского Ренессанса» начала XX века, заканчивал свой блестящий этюд о «грибоедовской Москве» сравнением «века нынешнего и века минувшего», находя неожиданно в последнем и некие утраченные потом позитивные черты.