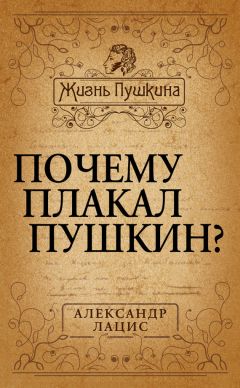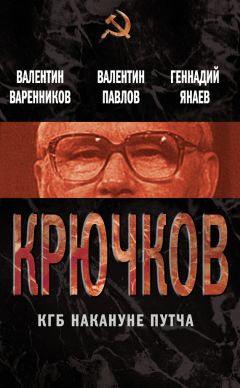Кирилла Романовна четко объяснила – и все это на память, на слух, – в чем именно там противоречие!..
Вряд ли кто из читателей выучил тексты писем слово в слово.
Да и далеко не всех интересуют подробности. И потому желающих убедиться отсылаю к соответственным строкам безымянного письма.
…Один более проницательный ум отыскался. Значит, появятся и другие. И в конце концов, уже за пределами нашей повести, линии поисков непременно сойдутся. Не могут не сойтись, ибо они движутся к одной и той же точке.
Денису Давыдову однажды что-то наобещали, потом сказали, что его аренда отдана другому. Впрочем, сюжет с Давыдовым более поздний А вот случай более ранний. Генерал И. В. Сабанеев в 1819 году писал из Одессы Закревскому:
«Ну, брат, поддели меня с арендой… Вот как надежны министерские обещания. Это значит, царь жалует, а псарь не жалует».
Наиболее памятливые читатели тут же подскажут, что подобные слова Пушкина, направленные против С. С. Уварова, мы уже приводили, цитируя пушкинский дневник.
Не только стихи против Уварова, вся поэтическая деятельность Пушкина была в конечном счете деятельностью политической. Примерно сто тридцать лет назад эту мысль выразил поэт Николай Огарев:
«…Эпиграмма Пушкина всегда бьет политического врага даже в литературном враге: от Николая до Булгарина, от царя до шпиона – везде казнится один враг, враг гражданской свободы. Лучшее доказательство, что самые личные враги Пушкина, затрагивая его, затрагивали и целость направления и становились врагами общественными. Так была эта личность неразрывно связана с общими стремлениями».
В менее определенных выражениях, рассчитанных на подцензурную российскую печать, о том же говорил писатель Александр Вельтман. Вот отрывок из его «Бессарабских воспоминаний о Пушкине»:
«…В нраве Пушкина отзывалось восточное происхождение; в нем проявлялся навык отцов его к независимости, в его приемах воинственность и бесстрашие, в отношениях – справедливость, в чувствах – страсть благоразумная без восторгов, чувство мести всему, что отступало от природы и справедливости.
Эпиграммы были его кинжалами. Он не щадил ни врагов правоты, ни врагов собственных, поражал их прямо в сердце, не щадил и ‹себя и› всегда готов был отвечать за удары свои».
Копия, по которой печатались заметки Вельтмана, затерялась. В 1881 году печаталось: «Эпиграммы были его кинжалами». Позднейшая публикация, 1899 года, дает более гладкое чтение: «Эпиграмма была его кинжалом». Однако в учебниках текстологии содержится остроумный совет: при прочих равных условиях доверяйте тому варианту, который выглядит… менее привычным!
Мы познакомились кое с кем из персон, игравших не последнюю роль в панораме придворного Петербурга. Преимущественно с теми, о ком Пушкиным сказано:
О сколько лиц бесстыдно-бледных.
О сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!
Иные заправилы общества исподтишка строили против поэта «адские козни». (Эта мысль, это выражение принадлежат Вяземскому.)
Другие всем существом своим умножали нелегкие обстоятельства жизни поэта.
Те и другие поочередно появлялись на страницах этой повести. Было рассказано не все, что нам о них известно. Увеличьте рассказанное вдвое. А результат снова увеличьте в пять раз или в десять – столько знал о каждом из них Пушкин.
И чем больше он знал, тем отчетливей ощущал каменное пожатье истуканов, вытеснявших напрочь и самый воздух.
Лучшая работа про «адские козни» была помещена в 1948 году в 45–46 томе «Литературного наследства». Она так и называлась: «Пушкин и Лермонтов в борьбе с придворной аристократией».
Ее автор, И. А. Боричевский, обдумал сказанное П. А. Вяземским и Лермонтовым. И кое-что из сказанного Пушкиным. Наиболее важным местом «Моей родословной» И. Боричевский признал первоначальный вариант:
Мятежный дух нам всем подгадил…
Отсюда исследователь заключает, что в своем шестисотлетнем дворянстве поэт «ценил не столько его знатность, сколько его мятежность».
Заметим, что позднейший вариант той же строки – «упрямства дух» – не менее важен, ибо под упрямством надо разуметь непокорность.
Российская придворная аристократия, она же светская чернь, как всякая толпа, состояла из множества разнообразных лиц.
В своем поведении Пушкин постоянно стремился сохранять независимость от «толпы вельмож и богачей», не применяться ни ко всем сановникам вместе, ни к каждому по отдельности.
Поэт жил и творил, следуя своим правилам:
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.
Нередко о Пушкине твердят, что он был противоречивым, поэтически рассеянным, порывистым, вспыльчивым, – можно привести еще дюжину подобных определений, обычно заключаемых ссылками на необузданный темперамент.
Гениальный, но беспомощный в жизни, вечный юноша… Сначала о нем заботились женщины, потом все за него решали пушкиноведы.
Все «непонятные» ходы мысли отбрасывались под рубрики незавершенных набросков и поэтических причуд.
Слова «Пушкин – гений» иной раз повторяют, не вполне ясно представляя, к чему они обязывают. Признавать гениальность вообще, так сказать, «в общем и целом» – этого мало. Уважать гений – не значит ли не забывать, что Пушкин, кроме всего прочего, был еще и очень умным человеком?
Можно сказать, что чем тягостней было давление враждебной среды, тем тверже было противостояние поэта, тем решительней и уверенней звучало его творческое противоборство.
Напоследок, вместо эпилога, ему, Пушкину-поэту, и передаю слово:
Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями.
Владея смехом и слезами,
Приправя горькой правдой ложь,
Он вкус притупленный щекотит
И к славе спесь бояр охотит,
Он украшает их пиры
И внемлет умные хвалы.
Меж тем за тяжкими дверями,
Теснясь у черного крыльца,
Народ, гоняемый слугами,
Поодаль слушает певца.
Позднейшие комментаторы, как ни странно, отозвались пренебрежительно: «недоработанный отрывок».
Чем же смутились серьезные умы? Им показалось не вполне ясно, о каком времени, о каком поэте речь? И как надлежит расценивать его поведение?
Эти стихи, они прежде всего о себе, о Пушкине. В начале стихотворения Пушкин рисует поэта притененно, как бы со стороны. В последнем четверостишии все проясняется, за видимостью проступает сущность: внимание тех, кто «поодаль слушает певца».