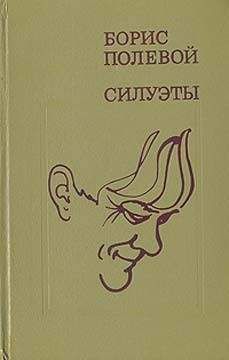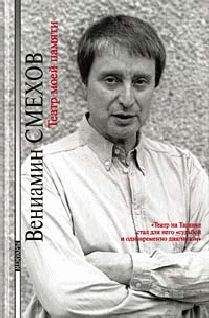Когда меня вызвали в Москву читать верстку, Федор Иванович считал меня уже своим человеком. Пригласил в Малый театр на репетицию своей пьесы «Жизнь». Посадил рядом, щедро рекомендовал своим знакомым, рекомендовал с такими преувеличенно лестными характеристиками, что мне стало даже неудобно.
— Федор Иванович, зачем так!
— Нужно. Вам нужно, не мне. Книге больший тираж дадут.
Спектакль получался несколько клочковатый, но образы его, знакомые по первым книгам «Брусков» — этой эпопеи крестьянской жизни, — и Кирилл Ждаркин, и Стеша, и сатирически заостренные фигуры противников коллективизации Ильи Плакущева, Егора Чухляева на сцене вырисовывались сочно во плоти и крови. В целом постановка производила впечатление.
Панферов очень переживал перепитии действия. То и дело вопросительно смотрел на меня.
— Ну как, ничего, доходит?.. А не дожали, не дожали они эту сцену.
Была там сцена гулянки. Подвыпившие мужики спорят о коллективизации, о чувстве собственности. В ярости спора один из них сдирает резные деревянные наличники с окна и вешает их на шею своему оппоненту в споре:
— На, на, общее так общее.
Эта, несколько натуралистическая, картинка произвела на автора особое впечатление: он откровенно плакал.
Когда занавес закрылся в последний раз, спросил, глядя прямо в глаза:
— Впечатляет? Ну? Только искренне.
Я искренне ответил:
— Интересно.
— У вас в Калинине хороший театр?
— Очень хороший.
— Рекомендуйте им мою пьесу. Сам приеду читать.
И выполнил обещание, приехал.
Прочел пьесу, угостил труппу в лучшем нашем ресторане «Селигер». Всех покорил своим хлебосольством и простотой.
Вместе со своим заместителем по редакции, суровейшим и умнейшим Василием Павловичем Ильенковым, который был при нем, как я уже теперь догадывался, чем-то вроде комиссара, интересно выступил в педагогическом институте. Потом оба потребовали, чтобы я отвез их на вагонный завод и познакомил с живыми прототипами «Горячего цеха».
Поехали. Сановитый Панферов, в бобровой шапке, в шубе на хорьковом меху с хвостами, во мраке громозвучной знойной кузницы выглядел довольно странно. Однако сразу же нашел с кузнецами общий язык и повел беседу не менее уверенно и умело, чем Ильенков — человек с обликом партийного работника тех дней, в гимнастерке и сапогах, сам работавший когда-то на паровозостроительном заводе и удачно дебютировавший в литературе романом с вполне индустриальным заглавием «Ведущая ось».
Панферов обладал редким даром сходиться с людьми, слушать людей, при этом вызнавать у них самое главное и интересное.
Прототип положительного героя повести Лузгина — человек, имя которого несколько лет уже не сходило с заводской Доски почета, — Федора Ивановича не заинтересовал. А вот озорной, цыгановатый, дерзкий на язык парень, послуживший прототипом Женьки, просто-таки его увлек. По окончании работы они вместе шли в потоке смены, такие разные: худой, весь подобранный, нервный, в замасленной стеганке молодой кузнец и сановитый писатель в своей боярской шапке. Шли настолько оба заинтересованные разговором, что не обращали внимания на удивленные взгляды встречных.
У ворот выяснилось, что молодой кузнец пригласил писателя для «душевного разговора» в ресторан клуба.
«Металлист», как говорили здесь тогда, «на груздочки». Была тут такая форма приглашения, на заводе, да и за пределами завода довольно известная, ибо тут на закуску подавались соленые грузди с мохнатыми краями, величиной с чайное блюдце, грузди особого посола, которые ОРС завода заготовлял где-то в лесном краю у истоков Волги.
— Груздь — это здорово… У нас в Вольске тоже любили грузди, — оживился Федор Иванович. — Бывало, на масленице бочками на базар вывозили. Сходим «на груздочки», Василий Павлович, проведем вечерок с рабочим классом?
Ильенков насторожился, посуровел.
— Не пойду, Федор. И тебе не советую. Завтра мы с утра на охоту собрались, ведь за нами товарищи чуть свет заедут.
Панферов не настаивал. Ясно было, что не эти самые грузди его притягивали, а хотелось всласть наговориться с заинтересовавшим его человеком. Я в этот день дежурил в редакции по номеру и задерживаться не мог, Оставили Федора Ивановича у машины, а сами вернулись в город на трамвае. Ильенков был встревожен и даже мрачен:
— Знаю я эти грузди…
Где-то около полуночи, когда я, отдежурив, вернулся в мою узенькую, как пенал, комнатенку и уже собирался ложиться спать, дверь распахнулась. В ней стоял Панферов. Боярская шапка на затылке, шуба распахнута, хорьковые хвосты на ней воинственно торчат.
— Интереснейший тип, — провозгласил он прямо с порога.
— Кто?
— Да ваш герой, конечно… Во всем — двадцать два.
— Простите, что это, в каком смысле?
— Двадцать два — значит перебор. В очко, что ли, никогда не играл? Во всем перебор, абсолютно во всем: и в привязанности, и в неприязни, и в любви, и в ненависти… Был у нас в Вольске такой молодой человек. Учился с похвальными грамотами, с золотым дипломом кончил. Ему карьеру Ушинского пророчили. Богатейший наш мукомол единственную свою дочку в жены ему сулил, а он… взял да человека зарезал. Так, ни за что ни про что. Поссорился в трактире с каким-то приказчиком. Тот его по морде, а этот ему столовый нож в сердце. А потом вышел на площадь: вяжите меня, православные, человека убил… Ты это можешь понять? Нет, не можешь… Характер. Русский характер… Вот и твой герой такой же. Лихо, между прочим, на гитаре играет. Цыган, прямо цыган.
Было ясно, что знаменитые грузди съедены не впустую. Обычно немногословный, сдержанный, Федор Иванович говорил без умолку, в обращении путал «ты» и «вы», и в языке его отчетливо слышалось этакое волжское оканье.
Пошел его провожать. От моего жилья до гостиницы «Селигер» было улицу наискосок перейти. Но гостю спать не хотелось, тем более что там в гостинице ждал его строгий Василий Павлович.
— Пойдем проветримся, где у вас тут гуляют-то? Набережная? Отлично.
Пошли на набережную Волги. Устало гремели на улицах последние трамваи, торопливо сбегаясь в парк на ночевку.
— …Я вот, по совести говоря, тебе не поверил, что повесть-то прямо из жизни выросла. Теперь вижу, ты не слукавил. Есть, живут такие люди… Не слукавил и правильно поступил. Так вот и дальше из жизни людей выбирай. Я вот тоже все из жизни. Кирилл Ждаркин он мой дружок, наш, саратовский. Тебе бы его посмотреть: глыба, человечище.
И вдруг перескочил на давнюю свою обиду.
— Вот Горький в письме к Серафимовичу меня ругал: язык-де Панферов засоряет, слова калечит, тащит в литературу натурализм, анахронизмы, черт те что. А я ему говорю, отвыкли вы, Алексей Максимович, там в своих Италиях от родного языка, давно его не слыхали… Верно я говорю или нет?