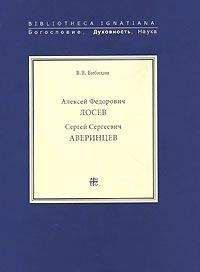Могут спросить: какое все это имеет отношение к науке, к филологии, наконец, к нашему дорогому Сергею Сергеевичу, о духовности которого на нашем “круглом столе” говорят так громко и так легкомысленно?
Отношение — имеет, но не совсем риторическое и совсем не эстетическое.
Афины и Иерусалим В поздней статье нашего автора о Вячеславе Иванове (1995) сказано, ближе к концу: ...тоталитаризм сам по себе — абсолютно ложный ответ на реальные и глубокие вопросы, которые не решаются, а заново ставятся крахом тоталитаризма (здесь и в последующей цитате курсив мой. — В. М.).
— Какие вопросы?
Почему эта едва ли не главная сегодня для наук исторического опыта, как и для философии, аверинцевская мысль, которую С. С. в последние годы не раз повторял, не боясь повториться, в своей, может быть, гениальной публицистике, в филологии, к сожалению,осталась не развернутой, не продолженной, тоже как бы брошенной? Аверинцев слишком часто ставит точку там, где недосказанность — прием неизбежный и продуктивный в условиях несвободы — в других условиях заметно теряет свои преимущества, зато усиливает свои изначальные недостатки. С. С. не случайно писал о риторике и переводил “Риторику” Аристотеля; к его собственной риторике риторически не подступиться — так блистательно она выстроена, так, если угодно, “сделана”. Но предметно никакая речь (даже поэтическая, даже лирическая) не кончается точкой, строфой, рифмой, сколь угодно убедительной или трогательной интонацией; любое высказывание по своему смыслу не завершено и скорее обрывается — как в только что приведенной цитате. Реальные и глубокие вопросы, которые советский век не поставил, тем более не решил, а только вытеснил или подменил собою на время, — ведь это же, среди прочего, и о будущем филологии, если исходить из того, что оно, это будущее, философски выражаясь, “возможно”.
Тематизируем здесь один такой, подмененный тоталитарной “практикой”, вопрос в направлении сформулированной Аверинцевым задачи, но с другого (не символистского) “конца”. С того конца, с которого С. С. в некотором смысле начинал. Я имею в виду нашумевшую на рубеже 1960—70-х годов статью “Греческая “литература” и ближневосточная “словесность” (два творческих принципа)”, первоначально напечатанную в “Вопросах литературы”. Наталья Петровна, жена С. С., однажды, давным-давно, рассказала, что они с Сережей называют эту работу просто Афины и Иерусалим. Тема статьи, символизированная этим заглавием, возвращает нас к тому, что говорилось выше в связи с неязыческим, неантичным преобразованием сократовского вопроса.
“Абсолютное прошлое” эпоса, относительное прошлое трагического действия, а равно и относительное настоящее лирической поэзии или школьно-софистического искусства красноречия (риторики), все-таки — с точки зрения задачи христологического обращения языческой идеи истины-добродетели, — условны. Они, конечно, “прекрасны” — и Алексей Федорович Лосев (у которого Аверинцеву было чему поучиться) прекрасно показал, каким образом и почему онтологический вещный магизм античного космоса сочетался, если не совпадал, с “античной эстетикой” (и с античной же “теорией”). Но вот что было после? И в каком смысле было? Конечно, “после” и “было” не в хронологическом, но и не культурологическом смысле, как это еще в “морфологии культуры” Освальда Шпенглера, так заворожившей в свое время русских мыслителей до Лосева включительно.
Язычество (как и миф, магия, “варварство” и многое другое) не только и не просто когда-то было; оно “изначально” и потому “вечно” в человеке и в человечестве. Более того, конкретная реальность язычества не тождественна образу “язычества” — “образу”, или так называемой картине мира. Не только рационалистически брезгливый, но и эстетически приемлющий прошлое взгляд может оказаться не вполне адекватным “вот этой” или “вот той” реальности бытия-события прошлого изнутриего, не совпадает с “вот бытием” прошлого (или “присутствием”, как покойный В. Бибихин перевел практически непереводимый в силу своей умышленной нетерминологичности термин раннего Хайдеггера Dasein, возникший в полемике с философской традицией вплоть до Шпенглера). Со своей стороны, Бахтин, поясняя в 1970 году в журнале “Новый мир” свое понятие “большого времени” и противопоставляя его шпенглеровскому пониманию античности и истории культуры, вспоминал гимназическую шутку: древние греки не знали о себе главного — что они “древние греки”; шутка иллюстрирует продуктивное различие между историческим опытом, с одной стороны, и “картиной” этого опыта при взгляде на него извне, с другой (напряжение “взаимной вненаходимости”).
Вспомним здесь проникновенные слова, которые С. С. написал о Лосеве в некрологе “Памяти учителя”: Мы распознаем голос лично уязвленного, лично задетого человека, мы чувствуем, до чего измучили, до чего измаяли его душу какие-то моменты психологической несовместимости между античным и христианско-европейским духовным складом. Со времен Василия Розанова и Павла Флоренского не было, кажется, никого, кто отважился бы с такой последней откровенностью говорить на темы, которые принято называть отвлеченными.
Стоит вспомнить эти слова для того, чтобы спросить: каков коммуникативный возраст “последней откровенности” — речи русского мыслителя, которого, как подчеркивал его ученик, исторически ошибочно (и инфантильно) считать и почитать в качестве “классика” (хотя бы и “последнего”)?
Сегодня речь с претензией на последнюю откровенность и последнюю истину совсем выродилась в постсоветскую мегаломанию, в бесплодную и бездарную “достоевщину” или “розановщину”, почти выпавшую из истории, в инфантильный и разнузданный эстетизм не столько “последнего человека” по Ницше, сколько “последнего совка”.
Аверинцев, преемственно заинтересованный темами русской религиозно-философской мысли, с самого начала говорит на эти темы уже совершенно иначе. Дело не во внешних ограничениях тоталитарного государства, а во внутренне-исторической дистанции по отношению к воспринятым традициям; дистанция не могла не быть отрезвляющей. (Пореволюционная эмиграция, за важными исключениями, в общем, не стала и не могла стать для русской мысли коммуникативно-социально-земным “трезвением”; для оставшихся в России наследников старой культуры, наоборот, новые условия были школой, правда, почти не преемственной.) Аверинцев в этом отношении старше, взрослее своих ближайших учителей — философов и поэтов так называемого серебряного века. Насколько С. С. по своим эстетическим вкусам и образу мысли совершеннолетнее исторического символизма — это уже другой вопрос; важнее то, что он сделал некий шаг, поворачивая речь русской литературно-критической, литературно-общественной традиции, — поворачивая не только “назад”, но и “вперед”. Оттого, вероятно, вопрос об Аверинцеве и будущем филологии правомерен и вызывает на ответ.