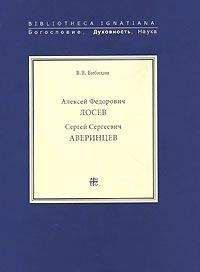Не только тогда, когда С. С. говорит о “трезвении”, о “здравом” отношении к миру и к духу, — почти всегда смысл его речи коррелирует со способом речи, ощущающей себя не в светском салоне какой-нибудь дореволюционной меценатки, но и не на кухне эпохи застоя: в том и в другом хронотопе призванность к общению была только общественной предпосылкой речи, но не была задачей, вопросом, личным почином речи. (Так называемая гласность оказалась испытанием даже и для Аверинцева; философ Э. Ю. Соловьев рассказывал о поучительной “беседе о культуре” на ТВ между С. С. и М. К. Мамардашвили году в 1989-м: С. С. начал свой монолог и говорил минут двадцать, после чего Мамардашвили, не выдержав, предложил: “Сережа, может, поговорим?” Не уверен, впрочем, что М. К. говорил в принципе по-другому.)
В математике можно продолжить мысль и “после перерыва”, как если бы истории не было. Математика, замечает Аристотель (в “Никомаховой этике”), доступна молодым людям, особенно детям, она ведь не имеет дело с “опытом” и “рассудительностью”; в переводе Н. В. Брагинской: “молодой человек не бывает опытен, ибо опытность дается за долгий срок” — то есть, по мере взросления, совершеннолетия. С историческим опытом — то же самое.
В отличие от так называемых опытных наук, историческая стихия сознания-речи (дискурса) не знает перерывов, а “после” означает для исторического опыта нечто иное, чем хронология. Аверинцев был достаточно рассудителен и не наивен для того, чтобы не примерять на себя (как не примерял и Мандельштам) “не по чину барственной шубы” предшественников, по отношению к которым его мысль была преемственной. Статья С. С. об авторе “Диалектики мифа” и “Очерков античного символизма и мифологии” намеренно ограничена “подступами к явлению Лосева”; в статье почти все сказано, но так по-аверинцевски, что в обществе и в научном сообществе, где больше реагируют на вызывающий крик и провокации, чем на разговор и дискуссию, этого можно не заметить или заметить, но промолчать: все равно ведь никто (кроме публицистов и провокаторов) не решится заговорить публично “из глубины”… Другое дело — как методически по-новому — не психологически, не лирически, не “риторически” — ставить старый вопрос о моментах психологической несовместимости между античным и христиански-европейским духовным складом. Тут не одна психология, тут история. Насколько ученик не скажу — “современнее” (слово это можно добавить к перечню скомпрометированных слов, который С. С. составил в одной из своих статей), но все же “старше”, исторически взрослее своего учителя и довольно скандально завершаемой последним традиции “платонизма” на русской почве? Вот в чем вопрос.
Немецко-еврейский религиозный мыслитель Франц Розенцвейг (несомненно, известный Аверинцеву-библеисту как соавтор Бубера по новому после Лютера переводу Пятикнижия на немецкий) писал в 1925 году в статье “Новое мышление”, полемизируя со Шпенглером и объясняя эстетическую условность мифического Олимпа, а равно и историческую относительность греческой метафизики: “На самом деле, в строгом смысле слова “было”, этого никогда не было. Когда древний грек обращался с молитвой к своим богам, услышать его, понятно, мог не Зевс и не Аполлон, а только сам Бог. И грек, конечно, никогда в действительности не жил в своем “космосе”, а жил он в сотворенном Богом мире, единственном на все времена, — мире, солнце которого светит нам так же, как оно светило Гомеру. И был этот грек не героем аттической трагедии, а просто человеком — всего лишь человеком, как вы и я”.
Просто человек, всего лишь человек,nur ein Menschenwesen, как сказано на первой странице библейской тетралогии Томаса Манна “Иосиф и его братья” (начата в том же 1925 году): по этому пути открытия нового понимания историчности и большого времени (и, соответственно, критики формального, ориентированного на линейный “прогресс” историзма девятнадцатого века, скрепленного авторитетом Гегеля) пошло в 1920-е годы на Западе (прежде всего в Германии) новое историческое, философское, религиозное, художественное, научно-гуманитарное мышление, о чем здесь подробнее говорить невозможно. Уместно отметить другое: советская ретроспективная картина “двадцатых годов”, заимствованная прогрессивно-революционной западной филологией и идеологией в 1960-е годы и скрепленная живым авторитетом Романа Якобсона, хотя и возникла из того же общеевропейского опыта, но вела в иных направлениях и имела совсем другой “дискурс” и даже другой возраст речи.
Можно подумать, что все это не имеет отношения ни к так называемой научности, ни к так называемой духовности; но это не так. Для наук исторического опыта и для философии этого опыта в ХХ веке суть дела не только и не просто в том, что одна эпоха сменяет другую эпоху, одна “картина мира” — другую “картину мира”. Дело идет о радикальном повороте-перевороте в понимании смыслового единства времени — единства, которое невозможно адекватно представить в эстетически завершенном (отрешенном) видении того, что “уже было”. Прошлое не отделено от настоящего так, как тело отделено от тела, атом-индивидуум от другого атома-индивидуума в так называемом классическом (античном) каноне европейской эстетики. Смысловое единство времени и события скорее надындивидуально, причем так, как характеризует гротескный канон Бахтин в книге о Достоевском: личность, подобно самой истине, “выходит за себя” и рождается не в глубине изолированного тела-атома, не в “душе”, а между личностями, по логике “двутелого тела”, “гротескного тела” и т. п. Тем самым повторенный и обновленный С. С. библейски-христологический мотив и императив, в соответствии с которым мы призваны в общение, оказывается чем-то бульшим, чем риторическим благим пожеланием. Ведь и сам Аверинцев, даже споря с Достоевским и Бахтиным так, как только русский человек, вслед за Чаадаевым, может спорить со своим историческим миром и опытом, признавал (в “Заметках о европейском контексте русских споров”, 1989): Процедура, при которой тезис доказывается как антитезис антитезиса и к вере ведут через неверие, материализовалась у нас не в построении схоластических трактатов, а в атмосфере романов Достоевского. Там Аквинат — здесь Достоевский: контраст говорит о многом.
Но за этим “культурным”, или “межкультурным”, контрастом, за текстом, стоит все же кое-что еще: сотворенный Богом мир, единственный на все времена, то есть некоторый непрерывный, движущийся одновременно “назад” и “вперед” исторический опыт времени, бытия и речи, субъектом которых является просто человек, всего лишь человек, как вы и я. В этой уже не античной, но и не стилизованно-библейской архитектонике бытия-события ни так называемые общие тенденции, ни относительная общность классовых, национальных, цеховых, экономических интересов сами по себе ничего не определяют, не решают и не завершают извне. Но именно поэтому земные испытания и исторические ставки возрастают (как сказано в известном стихотворении Мандельштама 1917 года) до “десяти небес”.