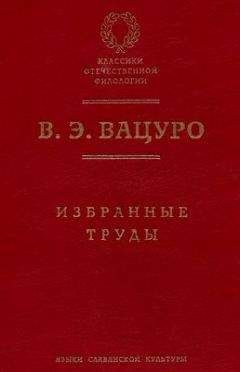А. Я. Панаева, видевшая Р. на репетициях, оставила его словесный портрет: «тип немца, высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение»; подобно И. И. Панаеву и Глинке, мемуаристка сообщила, что он «упивался» своими стихами[1438]. Как и трагедия Р., либретто «Жизнь за царя» оказалось шире отводившейся ему роли художественного официоза. (О роли Р. см. также Лит. при ст. Глинка М. И.).
В 1835–40 гг. личный секретарь при наследнике, великом князе Александре Николаевиче (в 1840 — коллежский асессор). Литературную работу, однако, не оставляет, участвует в «Современнике» Пушкина: ст. «О рифме» — к обоснованию безрифм. стиха (1836, т. I), сцена из трагедии «Дочь Иоанна III» (т. II). Смерть Пушкина глубоко потрясла Р.; памяти его он посвятил стих. «Могила поэта»[1439] и «Эврипид»[1440], где указал на конфликт с двором как причину гибели поэта (Лернер Н., Рассказы о Пушкине, Л., 1929, с. 199–203); какие-то стихи читал в день его похорон (воспоминания В. П. Бурнашева[1441]).
В конце 1830-х гг. возобновил сотрудничество с Воейковым и ненадолго сблизился с А. А. Краевским; И. И. Панаев вспоминал о критических нападках Р. на драматургию Н. Кукольника, игру В. А. Каратыгина и постоянных разговорах о своем драматургич. призвании[1442]. В 1838–39 в свите наследника (где был и Жуковский) совершил заграничное путешествие: встречался в Риме с Н. В. Гоголем. Результатом путешествия явилась серия путевых очерков и стихов в «Северной пчеле» (Лейпциг. Из путевых заметок — 1839, 21, 22 марта), «Сыне отечества» [стих. «Встреча в Эгерском замке» (1842, № 4), очерки: «Римский пантеон» (1841, II), «Первая прогулка по Риму» (1842, № 7), «Ватиканский собор» (1844, VI), «Поездка на дачу Горация» (1847, № 1), «Прогулка по Рейну» (1848, № 2, 11), «Путешествие по Швейцарии» (1849, № 9), «Римский пилигрим» (1849, № 10)] и других изданиях («Окрестности Женевского озера»[1443]), «Колизей, древний театр римлян» (Пантеон, 1840, ч. 1, кн. 1)]. Очерки Р. стали заметным явлением в рус. «литературе путешествий» 1840-х гг.; дорожные впечатления сочетаются в них с живо воссозданными картинами ист. прошлого, в т. ч. Средневековья, античности (см. «Поездка на дачу Горация»), критическими экскурсами, автобиографическими отступлениями, придающими повествованию личностный, порой лирический характер.
В 1840 вышел в отставку с ничтожным пенсионом в 400 руб.; Жуковский хлопотал перед вел. князем об увеличении суммы («этого достаточно, чтобы в первую треть года не умереть с голоду»[1444]). По воспоминаниям родных, с начала 1840-х гг. жил затворником на своей небольшой даче в Кушелёвке, занимаясь литературой и воспитывая детей брата и собственных[1445]. Нужда заставляла, как и ранее, искать литературного заработка; он устанавливает связи с «Пантеоном…» и «Лит. газ.» Ф. А. Кони[1446], и с «Сыном отечества»; в 1849 выполняет функции редактора, но уже через неск. месяцев вынужден передать их В. Р. Зотову[1447].
В «Сыне отечества» систематически печатал критические статьи, в т. ч. о переложении древнеиндийского эпоса «Наль и Дамаянти» Жуковским (1844, № 2) и о «Воспоминаниях» Ф. В. Булгарина (1847, № 3№ 1848, № 11), с защитой Булгарина от нападок прессы и признанием его значительной роли в русской литературе; в результате их сближения Булгарин предложил вести критический отдел в «Северной пчеле»[1448].
Подход Р. к литературным явлениям обусловлен его концепцией исторического развития русского общества, совместившей элементы славянофильства и западничества: как и славянофилы, он усматривал в русском народе нравственные и интеллектуальные потенции, дающие ему преимущество перед другими этносами, подобно западникам, в реформах Петра I видел мощное позитивное, цивилизующее начало. Р. решительно отрицал славянофильский тезис о разрыве между верхними слоями общества и народом, видя их разницу лишь в уровне просвещенности, распространяющейся постепенно. Ценность литературных эпох и наследия отдельных писателей определялась для него мерой сочетания в них просвещенности и народных начал; так, творчество А. А. Бестужева — воплощение «оригинальности и гениальности» народного духа, но отмеченное печатью «дуализма», разлада между индивидуальным талантом и свойственным его эпохе невысоким уровнем просвещения[1449]. Образцом гармонического сочетания «народного» и «просвещенного» явилось позднее творчество Пушкина. В применении к конкретным литературным феноменам концепция Р., проводимая с догматической последовательностью, обнаруживала жесткий нормативизм и консервативность, что ясно сказалось в оценке Р. творчества М. Ю. Лермонтова и Гоголя.
Признавая за Лермонтовым индивидуальные достоинства и объявив «замечательными» «Мцыри» и «Песню про царя Ивана Васильевича», Р. отверг «направление» его поэзии как «нехудожественное», проникнутое байронизмом, горькой рефлексией, а потому — «искусственное» и бесплодное для рус. лит-ры; дарование Лермонтова не успело созреть и преодолеть подражательность («О стихотворениях Лермонтова»[1450]). Откликаясь на 2-е изд. «Мертвых душ» (1846) со специально составленным к нему предисловием автора, Р. определяет Гоголя как «кривое зеркало», в которое смотрится «неизящная, не чистая природа» («Поэма Н. В. Гоголя об Одиссее»[1451]), а в статье «Ссылка на мертвых»[1452] развернуто анализирует зрелое творчество Гоголя («Ревизор», «Нос», «Мертвые души», «Выбранные места из переписки с друзьями»), пытаясь доказать, что оно в своих основаниях противоречит нормам пушкинской эстетики, равно как и общим эстетическим нормам литературы. Одновременно нападал на сторонников и почитателей Гоголя, якобы взрастивших в нем убежденность в собственной гениальности. Мемуарная часть статьи содержала ценные фактические сведения о Пушкине и литературных взаимоотношениях в пушкинском кругу (в частности, Пушкина и Гоголя); тонкая проницательность отдельных наблюдений и выводов сочеталась в ней с тем же узким эстетическим догматизмом, авторским самомнением и нарушением литературного этикета, иногда выходившим за рамки литературных приличий (анализ статьи и вызванной ею полемики см.: Шенрок).
В 50-е гг. изредка печатался в «Северной пчеле» (1853–54, 1856–60); выход в 1857 «Князей Курбских» был уже совершенным анахронизмом. В том же году выступил с историко-публицистической книгой «Отъезжие поля» (СПб.), где пытался подтвердить свои концепции материалом этногенеза; черпая исторические, а главным образом «психологические» аргументы из Геродота, мифологии и др. античных источников, выводил происхождение славян от скифов, слившихся с готами, что, с его точки зрения, определяет как историческую древность русского народа, так и его особые воинские, личностные и нравственные качества. Публицистический трактат, несмотря на широкую начитанность автора, оказался совершенно дилетантский по методике анализа.