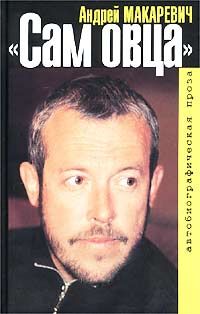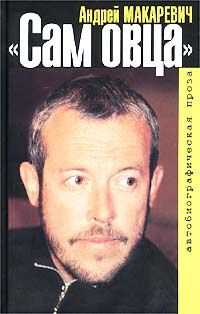По дороге Белек уверял меня, что скотина пробудет в отключке до утра, поэтому совсем ни к чему ставить о ней в известность проводников. Но я хотел, чтобы все было по закону. Поэтому я пошел в кассы, сунул голову в окошечко и честно сказал, что хочу отвезти в Питер козу. Я ждал скандала, но кассирша, не поднимая лица, равнодушно промолвила: «Шестьдесят семь рублей шестнадцать копеек». Потрясенный, я отсчитал деньги и получил солидного вида синюю квитанцию, где среди цифр, печатей и водяных изображений значилось: «Коза, 1 шт».
Потом я взвалил мешок на плечо, и мы с Бельком зашагали по перрону. В этот момент коза стала подавать признаки жизни — она начала слабо шевелиться, не приходя в сознание, и издавать звуки. Мне не с чем сравнить эти звуки. Коза не кричала и не блеяла — она тихонько блажила. Наверно, так плачет во сне карлик. Но с такой квитанцией мне уже ничего не грозило. Мы дошли до нужного вагона, я отдал Бельку мешок, попрощался с обоими, обещал навещать, и поезд медленно тронулся.
Судьба козы в дальнейшем, увы, не сложилась. Довольно быстро она выросла в красивое стремительное животное с сумасшедшими дерзкими глазами. Но характер имела прескверный. Вследствие того, что она категорически отказала в сожительстве местному деревенскому козлу, молока у нее так и не появилось. Строптивость ее доходила до абсурда — единственный способ загнать ее в сарай выглядел так: два дюжих мужика тянули ее за рога прочь от сарая, а потом внезапно по команде разжимали руки. Под силой собственного противодействия коза влетала в сарай, и оставалось только с максимальной скоростью захлопнуть ворота. К тому же животное обладало невероятной прожорливостью, и берег Невы, некогда зеленый, медленно, но верно превращался в пустыню, покрытую ровным слоем черных блестящих шариков.
В результате всего этого местные жители под предводительством бывшего водолаза Лехи, воспользовавшись приближением Нового года и отсутствием Белька, казнили и съели скотину.
Мне жаль, что я даже не успел дать ей имя. Я бы назвал ее Ребеккой.
Когда я учился в шестом классе, к нам в школу приезжал детский композитор Кабалевский. Это был такой сухой и очень бодрый дядька. Он показывал нам электронный инструмент «Терминвокс» — чудо отечественной технической мысли (прошло тридцать пять лет, и я увидел и услышал тот же инструмент в руках девушки-исполнительницы, и это было блестяще — он до сих пор не имеет аналогов в мире), потом Кабалевский рассказывал нам, что для облегчения понимания музыки детьми он разделил ее всю на три категории — песня, марш и танец. Тут же и провел с нами эксперимент, подтверждающий правоту его метода. «Ну, что это?» — радостно вскрикивал он, наигрывая что-то бодренькое на пианино. «Танец!» — хором отвечали все, включая самых тугоухих. «А это?» — «Марш!» Действительно, ошибиться было трудно.
Но меня всегда интересовало другое. Что такое мажор и минор? Нет-нет, я понимаю: малая терция — минор, большая — мажор, но мы всего этого еще не знаем. Да это ничего и не объясняет. Почему малая терция — грустно? Почему любой ребенок всегда отличит грустную мелодию от веселой? Почему она всем кажется грустной?
По-моему, я совершил открытие и, по-моему, я его ни у кого не украл.
Если мы запишем на пленку человеческую речь и проследим за ней на дисплее эквалайзера (извините за умные слова — на экране, графически показывающем частоту звука), то увидим, что наша речь — не постоянное бубнение на одной ноте: ее мелодия взлетает вверх, опускается вниз, и между словами, как между нотами, возникают интервалы. А теперь попробуйте записать и проследить речь человека, чем-то расстроенного, и речь человека, радостно возбужденного. И вы увидите, что между словами (а иногда — между слогами слов) речи человека опечаленного преобладают малые терции и квинты — постоянно прослушиваются ступени минорного трезвучия. Человек же, пребывающий в радости, глаголет квартами и большими терциями. То есть, разговаривая, человек все равно поет. Но печальная информация ложится у него на одну мелодию, а радостная — на другую.
Интересно, что все это относится к музыке (и интонациям) европейским. Если взять восточную речь и восточную музыку, то и интонации, и мелодические ходы мы услышим совсем другие, но и там печальная речь; будет так же связана с музыкой, навевающей на восточного человека печаль (на нас, может быть, и нет).
Меня в детстве занимало: почему у Битлов иногда грустные стихи поются на веселую музыку? Это вызывает театральный эффект — когда человек, смеясь, рассказывает о своем горе.
Музыка — состояние, не подкрепленное конкретной словесной информацией. Поэтому она несет, конечно, в сто раз больше, чем самые мудрые слова.
Мне кажется, музыка (не музыка вообще, а музыка, как мы ее знали) пережила в недавнем прошлом три смерти. Конечно, она не умерла — умрет она вместе с человечеством. Она трансформировалась во что-то, что я не берусь комментировать — найдутся люди посовременнее меня. Но если говорить о музыке, как мы ее знали, то первая ее смерть наступила в момент изобретения звукозаписи. Конечно, звукозапись дала возможность миллионам людей услышать то, что они никогда бы не услышали. Но тем самым девальвировала музыку и превратила ее в консервы, убив уникальность каждого исполнения. Бах всю жизнь проиграл в одной капелле. Много ли народа слышало его? Не думаю. Но его нельзя было сделать потише или погромче, нажать на «stop» и отмотать на начало. Или, скажем, подложить его игру под рекламу памперсов.
Каждая взятая им нота звучала единожды и неповторимо. И тем была ценна в высшей мере. Звукозапись имеет такое же отношение к живому исполнению, как фотография к живому человеку. Конечно, бывают очень красивые фотографии.
Вторая смерть наступила при изобретении электронного метронома и электронных барабанов. Нет, конечно, механические метрономы были задолго до этого — для репетиций. Но никому не приходило в голову нанизать музыку на ритм, лишенный жизни. А жизнь — это масса ритмов, спрятанных в природе, и прежде всего биение нашего сердца, и оно никогда не бьется равномерно. Мы волнуемся, и наш пульс учащается. И сейчас концертные исполнения рок-н-ролльных артистов в полтора раза быстрее студийных. Сравните состояние на сцене перед беснующимися фанами и в пустой прохладной студии. Практически вся заводная музыка тридцатых — шестидесятых от начала к концу хоть чуточку ускорялась — не специально, разумеется. На столько же повышался пульс исполнителя. Сейчас это считается большим недостатком. По-моему, это естественное и потому необходимое качество.
Сегодня придумали массу хитростей, чтобы замаскировать бездушного электронного барабанщика под живого. Например, в его идеально точную ритмически игру специально вводят маленькие ошибки. На покойника наводят румянец и ждут, когда он зашевелит пальчиками.