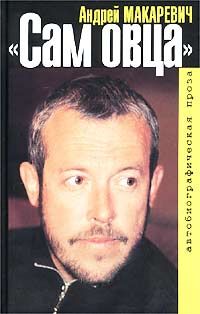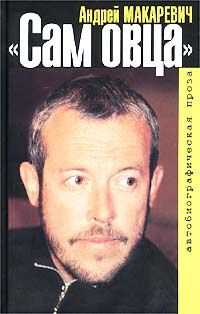Возможно, из-за этой своей безумной переживательности мама заболела раком. Очень рано — ей еще не было шестидесяти. Поскольку она сама была медик, скрывать что-либо не имело смысла, и все происходило медленно и непоправимо. Нам доставали импортные лекарства (это тогда еще было непросто), мама пила то отвары из трав, то специально очищенный керосин, я даже приводил какого-то экстрасенса, у которого под пиджаком проступали гэбэшные погоны, — ничего не помогало. За несколько дней до смерти мама написала мне и сестре записки — кому из ее знакомых врачей звонить, если заболит зуб, кому — если горло, кому — если, не дай Бог, сердце. Это было ее завещание.
Ужасное, незабываемое воспоминание детства. Мы с мамой едем в метро — наверно, к очередному врачу — показывать меня. Внезапно мама открывает сумочку, достает оттуда какую-то маленькую бумажку, складывает ее вчетверо и сует мне: «Немедленно почисти ногти! Они у тебя черные!» Ногти у меня действительно черные. Я жутко краснею: «Мама, все смотрят!» — «Да прекрати, никто на тебя не смотрит!»
Отец после смерти матери сразу очень сдал, постарел как-то внутри. Перестал по утрам играть на пианино. А потом жизнь стала постепенно уходить из него. Два раза я видел его ожившим — когда мы с ним перебирали и рассматривали его старые картинки и когда мне удалось вытащить его на концерт Рея Чарльза. Я все время мотался по гастролям, видел отца редко, и ухаживала за ним моя дорогая младшая сестра.
В день, когда отец умер, я находился в Египте. В доме у меня тогда оставался мой киевский друг по имени Гриц. Когда я вернулся, он рассказал мне, что в день смерти отца (Гриц ничего об этом не знал) в дом вошла синица, походила по кухне, по гостиной, влетела в мою мастерскую, посидела на столе и вышла (не улетела, а вышла) через дверь. Гриц говорил, что не видел такого никогда в жизни — как будто она искала что-то.
Я прилетел из Египта, и мы похоронили отца. Не скажу, что народа было безумно много — несколько преподавателей из института, несколько бывших студентов, несколько старых друзей, родственники, ближние и дальние, с которыми встречаешься исключительно на похоронах.
Через несколько дней я заехал в офис «Синтез рекордс» к Саше Кутикову. Стоял жаркий летний день, Кутиков сидел за столом, как и подобает президенту компании, окна и двери на балкон были широко раскрыты, а за спиной у Саши на книжной полке сидела изумительно желтая канарейка. Это выглядело так естественно, что я даже сначала подумал — Кутиков завел домашнюю птицу, и мы с ним какое-то время говорили о делах, а канарейка все сидела неподвижно, и тогда я сказал: «Какая у тебя красивая птичка».
«Какая птичка?» — удивился Саня.
Я показал на полку. Саня удивился еще больше и протянул к ней руку. Канарейка спокойно взлетела и пересела на окно. Она производила впечатление ручной. Мы накрошили ей печенья на подоконник, она вежливо склевала несколько крошек, внимательно посмотрела на нас по очереди и упорхнула в небо.
Был девятый день. 2000-2001
Несколько раз в своей жизни я видел один и тот же сон. Суть его заключалась в том, что я должен был куда-то попасть, где меня ждали. По пути возникали разные бытовые сложности, я задерживался то тут, то там и в результате опаздывал, но как-то очень сильно — скажем, на целый день, — и приходил, когда никого уже нет, свет притушен, стулья перевернуты и уборщица моет пол. Не знаю почему, но более острого чувства потери я не испытывал потом уже никогда.
Собственно, до «Машины времени» ансамбль назывался «The Kids», а до этого он вообще никак не назывался, и все происходило не сразу. По-настоящему все началось, когда я услышал Битлов. Я вернулся из школы в тот момент, когда отец переписывал «Hard day's night», взятый у соседа, на маленький магнитофон «Филипс». Какие-то обрывки Битлов я слышал и раньше, где-то в гостях. Крохотный кусочек их концерта (секунд пять) звучал по телевидению, демонстрируя тем самым, как низко пала буржуазная культура. В классе по рукам ходила фотка Битлов, несколько раз переснятая, затертая и потрескавшаяся, как старая икона, и уже невозможно было понять, кто на ней кто, но магия от нее исходила.
Так вот, я вернулся домой, и отец переписывал «Hard day's night». Было чувство, что всю предыдущую жизнь я носил в ушах вату, а тут ее вдруг вынули. Я просто физически ощущал, как что-то внутри меня ворочается, двигается, меняется необратимо. Начались дни Битлов. Битлы слушались с утра до вечера. Утром, перед школой, потом сразу после и вплоть до отбоя. В воскресенье Битлы слушались весь день. Иногда измученные Битлами родители выгоняли меня на балкон вместе с магнитофоном, и тогда я делал звук на полную, чтобы все вокруг тоже слушали Битлов. Сейчас, когда я вижу, как на чьем-то окне стоит динамик и на всю улицу гремит «Наутилус», я заставляю себя вспоминать, что то же самое я делал с Битлами — очень уж хотелось этот праздник подарить всем, в голову не приходило, что это кому-то не понравится. А может быть, наше подсознание таким образом ставило маяки, ища в пространстве братьев по духу. Братья по духу не замедлили появиться.
Незадолго до этого в наш класс пришли два новеньких. Юра Борзов скромным своим видом и тихим поведением полностью разрушал мое представление о генеральском сыне (мы знали, что папа у него большой военачальник). Голос его мы впервые услышали несколько дней спустя, на перемене, когда шла оживленная дискуссия на тему, может ли человек разорвать кошку. Спор, естественно, носил чисто теоретический и отвлеченный характер, самые разнообразные аргументы приводились и за и против. Юра некоторое время слушал, склонив голову, затем вдруг тихо и твердо сказал: «Ребята, не спорьте. Кошку разорвать нельзя». «А ты, что ли, пробовал?» — съязвил я в запале. «Пробовал», — просто ответил он и отошел, опустив ресницы. Так мы познакомились. Позже я познакомился и с его кошкой Марфой, и с трактиром «Не рыдай», но это уже было позже. А пока выяснилось, что Юра — битломан. Но если я битломан, то он — битломан в квадрате, в кубе, не знаю, в чем еще. Мы подружились.
Второй новенький был Игорь Мазаев. Он пришел к нам из интерната и выглядел гораздо самостоятельнее нас. Усугублялось это тем, что у него густо росла борода совершенно золотого цвета, что приводило в смущение учителей, но так как запрета носить бороду в восьмом классе не существует, никто ничего ему сделать не мог. Даже сказать «побрейтесь» язык, видимо, не поворачивался. Мазай играл на гитаре и пел русские романсы. Идея группы висела в воздухе.
Собственно, ансамбль у меня уже был. Состоял он из двух гитар, и две девочки пели англо-американские народные песни. Но это была не та группа, которую рисовало воображение. В десятом классе, на год старше нас, тоже была группа. Но там была именно группа, а не какой-то ансамбль — три электрогитары, барабаны, никаких девочек. Покровительствовала им учительница физики Тамара Васильевна, или попросту Тамара, и благодаря ей им разрешали выступать на школьных вечерах. Играли они инструментальные пьесы на темы Бабаджаняна и Битлов в стиле «Ventures». Однажды на вечере их бас-гитарист не выдержал и запел «Twist and Shout». Жилы на его шее надулись, глаза налились кровью, но голос не мог прорваться сквозь стену гитар и гром пионерского барабана. Это было страшно. Вечер закрыли.