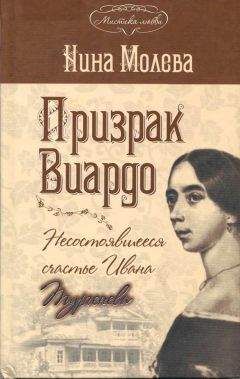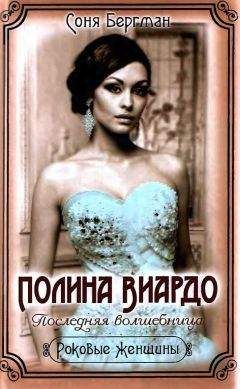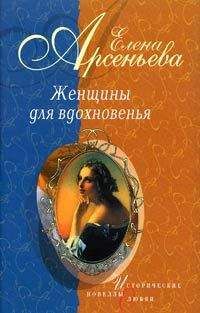«Вы меня называете «скрытным», — пишет Тургенев в очередном письме Юлии Петровне, — ну, слушайте же — я буду с вами так откровенен, что вы, пожалуй, раскаетесь в вашем эпитете.
С тех пор как я вас встретил, я полюбил вас дружески — и в то же время имел неотступное желание обладать вами; оно было, однако, не настолько необузданно (да уж и не молод я был), чтобы попросить вашей руки, к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал хорошо, что вы не согласитесь на то, что французы называют мимолетной связью… Вот вам и объяснение моего поведения. Вы хотите уверить меня, что вы не питали «никаких задних мыслей» — увы! я, к сожалению, слишком в том был уверен. Вы пишете, что ваш женский век прошел, когда мой мужской пройдет — и ждать мне весьма недолго — тогда, я не сомневаюсь, мы будем большие друзья, потому что ничего нас тревожить не будет. А теперь мне все еще становится тепло и несколько жутко при мысли: ну что, если бы она меня прижала бы к своему сердцу не по-братски? — и мне хочется спросить, как моя Мария Николаевна в «Вешних водах» — «Санин, вы умеете забывать?» Ну, вот вам и исповедь моя. Кажется, достаточно откровенно».
И вообще, если говорить о «несвободе» и обязательствах, этот разговор касался только Тургенева, и здесь все было на самом деле совсем не просто.
Пройдет еще 17 лет. Ничто не переменится в положении Тургенева. Незаживающая рана «неправильного счастья» будет отдаваться той же болью. Друзья перестанут давать советы, уговаривать переломить себя. Как давно он писал Льву Толстому: «Я уже слишком стар, чтобы не иметь гнезда, чтобы не сидеть дома!» И там же пояснял: «Я должен буду проститься с последней мечтой о так называемом счастье — или, говоря яснее, — с мечтой о веселости, происходящей от чувства удовлетворения в жизненном устройстве». С появлением баронессы Вревской эта мечта оживала, и если он чего-то и боялся, то того, чтобы отзвуки старой, неизжитой грозы не замутили ее счастья. Именно ее.
Тургенев опасался за женщину, которую столько лет влюбленно и бережно создавал в своих произведениях. Вревская не относилась к числу тех, кто способен бороться за свое счастье и навязывать свою волю. Оставались редкие встречи и переписка, которая продолжалась. И тяжелая болезнь Тургенева, которую от Юлии Петровны он тщательно скрывал: ноги, на которые нет сил встать. Карлсбадское лечение, упоминаемое в переписке, это попытка справиться с изнурительными болями. В Спасском он лежал день за днем, не выходя из комнаты.
Тургенев просит Юлию Петровну прислать ему фотографию: он хотел бы, чтобы она постоянно была рядом с ним, и сердечно благодарит за карточку, как за самый дорогой подарок. «Это очень мило с Вашей стороны, любезнейшая Юлия Петровна, что Вы вспомнили обо мне и прислали свою весьма похожую карточку (я принимаю ее как подарок ко дню моего рождения — он наступает послезавтра, 28-го октября, мне 56 лет!)». С ней делится наиболее важными событиями своей жизни. О том, как пытается помочь H. Н. Миклухо-Маклаю подготовиться к путешествию, неоднократно дает ему безвозмездно значительные суммы денег и ходатайствует перед П. М. Третьяковым о ссуде в 6000 рублей серебром на пять лет без процентов: для «выдающегося нашего естествоиспытателя и путешественника».
В марте 1877 года Тургенев просит Вревскую о любезности: «Вы прелесть и будете еще прелестнее, если не поскучаете прислать мне еще несколько заметок насчет юных нигилисток, которых судят теперь в Петербурге. Факт, что из 52-х подсудимых революционеров 18 женщин — такой удивительный, что французы, например, решительно ничего понять в нем не могут! А меня упрекали критики, что «Марианна» у меня сделанная! Через 3 недели я отсюда выезжаю — это верно — и надеюсь еще захватить процесс и Вас».
Летом они встретятся на даче поэта Полонского, в Павловске, под Петербургом. В последний раз. Для Тургенева станет неожиданностью решение баронессы уехать на фронт турецкой войны в Болгарию. Решение, принятое тихо и бесповоротно. То, как она, казалось, не привыкшая ни к каким лишениям, способна была отказать себе во всем ради раненых, ради сотен солдат, пропущенных через мясорубку войны, представлялось чудом. Юлия Петровна не знала усталости. Не знала раздражения и досады. В болгарских легендах она останется светлой и ясной лампадой любви к ближнему, неиссякаемого сочувствия и всепрощения. Она утешала, писала солдатские письма и вместе с ними письма к человеку, бесконечно ей дорогому, — Тургеневу Их было десять, по словам самого писателя, ничем не выдавших тех трудностей, через которые Юлии Петровне в действительности приходилось проходить. Десять писем… Дальше был сыпной тиф, от которого сестру милосердия оказалось некому лечить. Эта потрясшая Тургенева смерть привела к рождению стихотворения в прозе, так и названному «Памяти Ю. П. Вревской».
«На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа.
Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, — поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.
Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились… два-три человека тайно и глубоко ее любили. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.
Нежное, кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! — Помогать нуждающимся в помощи… она не ведала другого счастия… не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся пылала огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.
Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике — никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает.
Да и к чему? Жертва принесена… дело сделано.
Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу — хоть она сама и стыдилась, и чуждалась всякого спасибо.
Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь положить на ее могилу!»
Эти строки были написаны в сентябре 1878 года. Меньше чем через пять лет, в преддверии своей смерти, Тургенев отправил из Буживаля в Ясную Поляну последнее письмо. Написанное на случайной неопрятной бумажке, слабеющей рукой, без подписи. Оно кончалось страшными словами: «Не могу больше, устал…» У Ивана Сергеевича еще хватило сил назвать Толстого «великим писателем русской земли», призвать его «вернуться к литературной деятельности». Но на жизнь уже сил не было.