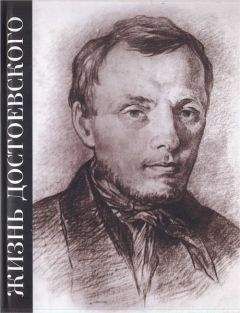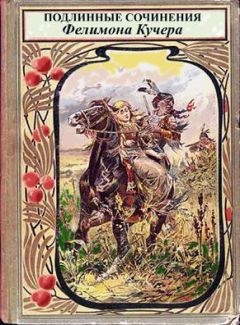В начале ноября к Белинскому пришел только что вернувшийся из Парижа молодой поэт Иван Сергеевич Тургенев. Его и Достоевского тотчас представили друг другу.
Прочитав «Бедных людей», Тургенев загорелся пуще самого Белинского.
«На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал), — рассказывал Федор Михайлович брату, — и с первого раза привязался ко мне такою привязанностью, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет — я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо-прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе… На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь. Эти господа уж и не знают как любить меня. Влюблены в меня все до одного…»
Им восхищались, за ним ухаживали. Жизнь его покатилась весело и празднично. Новая обстановка, новые лица — и все обращены к нему, все улыбаются…
Как-то ноябрьским вечером Некрасов и Григорович привели его к Панаевым. В обширной и богато обставленной квартире толпился народ — по большей части писатели, переводчики, артисты.
И. И. Панаев. Рисунок К. Горбунова. 40-е годы XIX в.С Иваном Ивановичем Панаевым, давним приятелем Белинского, автором бойких занимательных повестей, человеком веселым, добрым, безалаберным и легкомысленным, Достоевский уже был знаком. О жене Панаева — Авдотье Яковлевне — наслышался от Некрасова. Узнал, что она умна и образована, что на весь Петербург славится своей красотой. Он заранее ждал встречи с женщиной необыкновенной, но нет, он и вообразить себе не мог такого прелестного и странного смешения несовместимых, казалось, черт в одном человеческом существе. Во всем ее облике сквозило нечто гордое. Посадка головы, высокий спокойный лоб, чуть короткая верхняя губка маленького рта — все выражало какую-то надменность, даже презрительность. И в то же самое время большие темные глаза смотрели доверчиво и простодушно. Ему почудилось что-то тревожное, что-то затаенное и мучительное в самой странности, в самой противоречивости этой удивительной натуры. И с первого взгляда он исполнился сочувствием и нежностью к этой прекрасной и, как показалось ему, страдающей женщине.
«Вчера я в первый раз был у Панаева, — писал он в Ревель 16 ноября, — и, кажется, влюбился в жену его. Она славится в Петербурге. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя».
А. Я. Панаева. Акварель К. Горбунова (?). 40-е годы XIX в.Радушно, ласково встречала Авдотья Яковлевна в своем доме этого застенчивого юношу, которого сам Белинский называл гением. Но не похвалами Достоевскому объяснялась ее приветливость. Она видела, как робко входил он в комнату, как беспокойно перебегали с предмета на предмет его опущенные серые глаза, как нервно подергивались губы, и женским своим чутьем понимала, что, несмотря на все успехи, новоявленному светилу живется нелегко, сиротливо, одиноко и что он чувствует себя потерянным в большом незнакомом обществе. Она старалась ободрить его, шутила с ним. И эта милая ее заботливость рвала ему сердце. Благодарность мешалась с отчаянием оттого, что так же ласково, так же весело и вместе слегка надменно встречала она и многих других. Хотелось кинуться к ней, упасть к ее ногам и попросить жалобно: «Не привечивайте вы их всех, Авдотья Яковлевна. Привечивайте только меня, меня одного».
Уходя от Панаевых чуть не последним, он с трудом поднимался со стула. Так бы все сидел и смотрел без конца на нее, на красавицу…
Домой шел через силу. Через силу взбирался к себе по лестнице. И скорее — за рукопись, к недописанной странице похождений почтеннейшего Якова Петровича Голядкина, ибо ничто так не успокаивало, ничто так не целило, как работа.
«Я даже далеко ушел от Гоголя»
В одиннадцатом номере «Отечественных записок» за 1845 год появилось объявление об издании нового «летучего карманного альманаха» под названием «Зубоскал».
«…Конечно, смеяться можно, смеются все, отчего же не смеяться? — но смеются кстати, смеются при случае, смеются с достоинством, — не попусту скалят зубы, как вот здесь, из одного заглавия вашего явствует — одним словом, известно, как смеются… Да и почему знать, не намерение ли здесь какое скрывается? — скажут в заключение те, которые любят во всем, что до них не касается, видеть намеренье, даже дурное намеренье: — не фальшь ли тут какая-нибудь; может быть, даже неблаговидный предлог к чему-нибудь, может быть, даже вольнодумство какое-нибудь… — гм! — может быть, очень даже может быть, — при нынешнем направлении особенно может быть. И наконец, грубое, немытое, площадное, нечесаное, мужицкое название такое — „Зубоскал“! Почему „Зубоскал“? зачем „Зубоскал“?.. Да уж если на то пошло, так мы и расскажем вам, кто он именно такой, наш Зубоскал…»
Так начиналось это необыкновенное, насмешливое объявление. Написал его Достоевский. Типографские издержки по новому изданию брал на себя Некрасов. Вместе с Григоровичем, втроем, они становились во главе «Зубоскала». Альманах должен был «цеплять» своей насмешкой столичное общество, журналы, театр, литературу, газетные известия — словом, под видом беззлобного зубоскальства обличать пошлость и мерзость окружающего.
Достоевский со всегдашней своей горячностью желал немедленно, прямо и громогласно заявить о своей приверженности к «натуральной школе» — литературной школе жизненной правды, отцом которой был Гоголь. Ему не терпелось кинуться за нее в журнальную драку, так сказать, «врукопашную». «Зубоскал» был для того наилучшей ареной. Оттого-то с таким рвением принялся Достоевский за дело.
Объявление о «Зубоскале» в журнале «Отечественные записки».Для начала пообещал Некрасову злые «Записки лакея о своем барине». Несколько дней спустя придумал еще рассказ для «Зубоскала» — это была переписка двух шулеров, морочащих один другого. Сюжет пришел к нему за разговором, когда он как-то вечером сидел у Некрасова. Вернувшись домой, Достоевский взялся за перо и всю ночь писал. К утру «Роман в девяти письмах» — так назывался рассказ — был готов. Автор отнес его Некрасову. Некрасов, пробежав глазами рукопись, тут же выложил на стол гонорар — 125 рублей. И это за каких-то несколько страничек! Так платили лишь самым маститым писателям. Вечером того же дня Достоевский прочел свой «Роман в девяти письмах» у Тургенева, где собиралось множество гостей. Успех был полный.