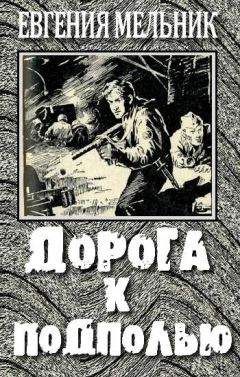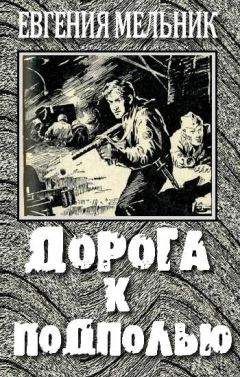— Лида, подожди!
Между мной и Лидой бежит маленький Женя, в темноте он теряет туфли, но не пытается их найти и дальше бежит босиком. Когда я падаю, маленький Женя возбужденно шепчет:
— Мама, скорей, скорей!
А вдали совсем уже затихают едва различимые звуки топота многих ног. Я бегу, падаю, поднимаюсь и снова бегу. В душе не страх, нет, но безнадежное отчаяние. Не нужно быть военным, чтобы понять: мухе и той трудно вылететь из-под обрыва. Наверху стоят немцы с пулеметами, всюду к выходам из батареи подведены танки…
Мы побежали куда-то вверх по узкой дорожке в обрыве и… дальше нет дороги: отвесная стена. Мы остановились. Что делать? Нигде нет лазейки. Возвращаться обратно, искать в темноте путь? Но бойцов нам уже не догнать, куда же мы побежим?
Осмотревшись, увидели, что стоим возле крохотной пещерки в скале, и сразу решили — забьемся в эту пещерку и будем здесь сидеть, в душную темноту потерн не тянуло. Длина пещерки позволяла лечь и вытянуться. Женя свернулся возле меня калачиком и положил на меня голову. Какое блаженство лежать, если вообще могла идти речь о блаженстве!
Не знаю, когда и как мы погрузились в сон, впервые за четверо суток. Но не сладок был этот мертвый, тяжелый, без всяких сновидений сон, скорее похожий на бесчувственное состояние. Вскоре я открыла глаза. Мне казалось, что я и не спала, острые камни, выстилавшие пол пещеры, впились в голову, плечи, бока. Весь остаток ночи пришлось без конца ворочаться.
Не помню, как рассвело. Я чувствовала себя умираю-, щей. Веки налились свинцом, мне стоило больших усилий слегка их приподнять. Когда они снова падали, то в ту же секунду я проваливалась в какую-то пустоту, где не было нравственных пыток, сжигающей жажды, ужасов, 35-й батареи, выстрелов и стонов раненых. Но увы, все эти мучения вскоре возвращали меня снова к жизни без надежды, к ужасной жизни, которая была хуже смерти.
С наступлением утра скалы ожили. Везде, во всех пещерах и щелях, куда только можно было забиться, сидели бойцы и командиры. С восходом солнца все расползлись в разные стороны по прибрежным камням Многие подходили к морю, черпали касками соленую воду и пили. Когда я возвращалась из небытия, у меня невольно вырывался стон — пить! Солнце палит, искрится под его лучами обманчивое море, нежно и спокойно, как ни в чем не бывало, бьются ленивые волны о прибрежные скалы, воды много, но что это за вода!
Нет сил больше терпеть, губы покрылись сухой коричневой коркой. Только одно желание: пить, пить…
— Мама, я пойду напьюсь и принесу тебе воды.
— Хорошо, только осторожно… Смотри, чтобы тебя не убили…
Женя бежит к морю и через пять минут возвращается с каской, наполненной морской водой. Я проглатываю один глоток — мерзость, все равно, что пьешь английскую соль; пробую проглотить второй и чувствую сильную тошноту. Передаю каску Лиде, но и у нее горько-соленая вода вызывает гримасу отвращения.
И все же время от времени Женя бегает пить морскую воду и приносит ее нам. Жажда не только не утоляется, но еще больше усиливается.
Наверху находятся немцы, мы это знаем по тому, что всю ночь мимо пещерки проносились пули, падали сверху и взрывались гранаты, вспыхивали и зажигались осветительные ракеты, а утром мы увидели много трупов на камнях. Посреди них навзничь, вытянувшись во фронт — руки по швам, — с запекшейся кровью на виске, лежал в своей зеленоватой форме убитый немецкий автоматчик. Он распрощался с жизнью за попытку проникнуть туда, где не смел показаться фашист, пока жив здесь хоть один советский боец. Это был первый немец, которого я увидела.
Днем, временами потрескивали наверху автоматные и пулеметные очереди, иногда падала вниз граната. Гитлеровцы считали, что из-под скал никому не уйти. Увлекаемые предательским течением, начали возвращаться с моря и приближаться к берегу маленькие плоты. На них по два-три человека. Это те самые плоты, на которые я когда-то смотрела с такой отчаянной завистью. Уже отчетливо видны фигуры и лица людей, — и вдруг наверху резко и неумолимо затрещал пулемет…
Я не поднимаю головы и не открываю глаз, не хочу ни видеть, ни слышать, но, помимо моего желания, приходится слышать. Кто-то сидящий поблизости произносит: «Убьют, будут стрелять до тех пор, пока не — убьют».
Прекращается стрельба. Я опять погружаюсь в небытие, а когда с трудом удается открыть глаза и приподняться, — вижу, как бьются о прибрежные камни плоты и окровавленные трупы.
Пока я спала, немцы невдалеке от нас подорвали кусок скалы. Она с грохотом обрушилась вниз и погребла людей, скрывавшихся под нею. Но я ничего не слышала, никакие звуки не могли теперь меня разбудить, пока я сама не просыпалась. Женя все время сидел, прижавшись ко мне, или сворачивался клубком и клал на меня свою голову.
Как-то Лида посмотрела на меня и сказала совершенно спокойно, как будто речь шла о самой обыденной вещи:
— Ты уже совсем доходишь.
Я даже не открыла рта, чтобы ей ответить, мне все было безразлично.
Иногда кто-нибудь из батарейцев, проходя мимо и видя меня лежащей в пещерке, говорил:
— Как же Мельник мог оставить жену и сына!
Тогда я приподнималась и отвечала:
— Мельник не виноват — так получилось… Он спас Ротенберга.
Другие сообщали все то же:
— Мельник искал вас, кричал и звал. А потом мы видели, как он с контуженным Ротенбергом на плечах прыгнул в последний отходящий катер…
Таких очевидцев оказалось немало, и все они говорили одно и то же. Значит, это правда, что Борис спасся. Но доплыл ли он до Кавказа? Конечно, доплыл!
Солнце в зените, накаляются камни. Жажда заставляет людей рыть ямки в прибрежном песке в надежде достать менее соленую воду, но это самообман, вода — все та же морская, горько-соленая, вызывающая тошноту. О, как мучительна жажда! Жене кто-то дал несколько изюмин, он принес их мне, но я не стала есть. Снова погрузилась в сон, и на этот раз это был приятный сон. Приснилось мне, что немцев прогнали из Севастополя. Мы идем с Женей, взявшись за руки, по широкой прямой улице, которая вдали упирается в ярко-голубое море. По сторонам улицы дворцы из чистого и прозрачного хрусталя. Возле них цветут каштаны, красуются какие-то необыкновенные цветы, похожие на орхидеи, белые, желтые, красные, сиреневые. И всюду — на домах, деревьях, на земле и в воздухе масса белоснежных голубей. Они что-то клюют у наших ног, вспархивают, перелетают, кружатся над головой. И на сердце вдруг стало спокойно и радостно.
Сквозь прозрачные стены домов мы видим людей в своих квартирах: вот мать наклонилась над спящим ребенком и бережно прикрывает его одеялом: моряк-пехотинец входит в комнату, снимает с себя автомат и ставит в угол, к нему подбегает жена… Да ведь это ют самый, что лежал раненым рядом со мной. Сейчас он здоров, силен — значит, поправился, и это несказанно радует меня. Вдруг мы видим маму и папу, они сидят за круглым столом, покрытым белой скатертью, и пьют чай. Мы вскрикнули от радости и бросились к ним. И вот мы все вместе сидим за круглым столом и пьем чай. Какое счастье! Опять дома, вернулись к человеческой жизни. Вокруг радостные лица, покой и мир. Но как все еще хочется пить! Я не могу напиться, и мама наливает мне вторую чашку чая с молоком — напиток, который кажется мне вкуснее всего, что я пила в своей жизни. Я протягиваю руку, беру чашку, подношу ее к губам… и просыпаюсь.