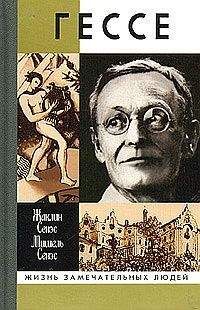Теперь мое умозаключение: главными политическими делами того времени считались в СССР процессы Юрия Орлова, Александра Гинзбурга и Анатолия Щаранского. Задним число ясно, что со свидетелями и уликами дела у Комитета складывались худовато. И вот в КГБ могли предположить, что литовец, отсидевший первые 25 лет и понемногу привыкавший к воле, надумавший, слава Богу, жениться, т. е. очень уязвимый, припертый данными обыска у Гинзбурга, согласится хоть немного помочь следствию против еврея, главной нынешней мишени для Комитета — в обмен на "заботу" о своей личной судьбе. Потому и улики были подобраны хрупкие — их всегда можно было бы перетолковать на "условный приговор", если бы обвиняемый повел себя "правильно"…
Но Балис Гаяускас отказался помогать своим противникам: он не появился в роли свидетеля на процессе Гинзбурга. Вот за это и рассчитались — выложили 15 лет срока за эпизоды, не тянувшие юридически даже на 15 суток.
Я любовался им в камере и гордился человечеством, которое имеет таких людей. Так вот и себя начинаешь уважать: ты тоже принадлежишь к роду Homo sapiens, представитель которого после 25 лет срока спокойно и с достоинством идет на новые 15, ибо верит — на его стороне Правда, на его стороне Бог. Радостно ощущать себя человеком, ибо понимаешь: смог один человек, значит, может и другой человек… Чтоб получить такое знание, стоит пройти этапными путями — во всяком случае, стоит Михаилу Хейфецу.
x x x
У каждой тюрьмы свой устав — как у каждого американского университета. В Рузаевке, я упоминал, устав в принципе приятный. Мне, например, выдали подушку и одеяло (естественно, без простыни или наволочки, но это все ж тюрьма, а не санаторий). Балису почему-то в тех же удобствах отказали. Конечно. я отдал ему свои, вопреки его стеснительным отказам- ведь он-то шел в зону…
Я жалел об одном: в моем чемодане и рюкзаке, сданных в тюремную каптерку, лежала куча теплого белья, носки и прочие шмотки, специально взятые на этап, чтоб одаривать ими товарищей встреченных на дороге… И вот — не могу отдать Балису: местный устав тюрьмы не позволяет пользоваться каптеркой во время этапного в ней сидения (это в принципе тоже хороший пункт — он защищает зэков от ограбления рецидивистами-паханами).
Я пишу об этом, чтоб напомнить: официально нас кормят на 50 копеек в день. Можно приплюсовать сюда 17 копеек "приварка" из лагерного ларька, даруемых за выполнение нормы на 101 %. Правда, следует зато вычесть то, что приходится на долю работников лагерной кухни, снабженцев, администрации зоны — но даже официально это почти в четыре раза меньше, чем тратит сегодня на питание человек на воле.
Когда зэк годами балансирует на грани истощения, несколько лишних сэкономленных калорий могут сохранить ему если не жизнь, то здоровье. Вот почему я был рад, когда сообразил — перед этапом Гаяускаса мог снять со своего тела теплое белье и носки и отдал ему, и еще в придачу какие-то пластмассовые банки ("и веревочка в зоне пригодится…")
На прощанье мы съели подарок, который Гаяускас вез в зону, — литовскую полукопченую колбасу. Не разрешат ведь пронести в зону, "не положено" — и мы уничтожили ее в Рузаевке. Но так грустно было ее есть — будто отнимал у товарищей со "спеца" — у Кузнецова и Федорова, у Мурженко и Шумука…
Горькой запомнилась та колбаса.
Г лава 4. 6 мая — 12 мая 1978 г. На окраине Европы
Опять с бытовиками
Этап Рузаевка- Свердловск оказался ничем не интересен. В купе нас 15 человек, 14 — бытовики. "Столыпин",был забит в "междупраздничные" дни, так что даже в туалет выводили не все купе, а лишь по трое, тех, кто оказывался самым проворным, первым успевал откликнуться на приказ конвоя…
Какой-то здоровяк ехал с моей первой зоны, 17-а, превращенной в "бытовую". Спросил его, как ладит с ворами наш бывший отрядник, лейтенант Улеватый. Угрюмо было отвечено: "Петля для него готова".
А ведь каким мальчишечкой-романтиком прибыл он в нашу зону из офицерского училища… Просился в оперативную часть! Вот пример "Васи Коробкина" из офицеров: хочешь — лепи из него героя войны, хочешь — военного преступника. Зиненко с удовольствием взял на себя функции нужного воспитателя в нужном месте. Валера Граур однажды слышал за дверью, как наш капитан разговаривает с нашим лейтенантом: "Ну что ты, х… м…й, вые…я? У тебя же, м…а, вместо мозгов г…о собачье!" Улеватый только посапывал… Ни с одним зэком, тем паче с зэком-диссидентом, не посмел бы пан капитан говорить таким приятным ему образом, но в разговоре со своим, офицером, позволял себе расслабляться от вечных интеллигентных упражнений. (Мне рассказывал доцент истории ЛГУ М. Коган, в войну служивший в разведотделе у будущего маршала и министра обороны Гречко: "Наш командующий был приличным человеком. Но матерился — жутко. Впрочем, как осуждать? Без этого жаргона ни один офицер не понял бы, что от него командарм требует".)
В два месяца обработал Зиненко Улеватого. Тот вроде обладал лексиконом современного образованного человека: встретит, бывало, тебя, заведет беседу — например, о студенческом движении в Европе, о Кон Бендите и Маркузе, и, не прерывая беседы, сунет руку в твой карман, достанет оттуда твои бумажки, на ходу просмотрит записи и, переводя беседу на новый фильм, положи их в твой карман обратно — если не нашел ничего для опера интересного. Даже у Зиненко для подобных функций имелись надзиратели, все ж таки помнил, что лицо он важное — офицер! Шишка…
Вспомнил я Улеватого в странной связи. Нынче на Западе модно возлагать надежды на "молодое поколение" советских руководителей. Я понимаю: видят говорливых и приятных на вид молодых людей, одетых модно (на Зиненко джинсы сидели, как пачка на балерине, а Улеватый и эмведешную форму подгонял себе точно по фигуре!), начитанных, владеющих языками профессионалов (Улеватый лекции читал нам — по юриспруденции). Невольно логичным кажется, что с этими договориться западным политикам будет проще, чем с дубоватыми стариками. А вот я как раз в этом не уверен: у "ветеранов" имелись хоть "ленинские нормы поведения", а у "образованных" и "модных" в глазах "божья роса", совести же и чести даже меньше, чем у "предшественников"…
За решеткой возник недомерок с погонами сержанта. Лицо — дебила.
— Спрячь часы, — обращается ко мне. — Советую по-доброму.
То, что я ношу на руке часы — признак "особости", "самости": позволено их носить, потому что срок моего тюремного заключения завершен, потому что формально я уже не зэк, а ссыльный…
— А вы мне советов не давайте, — "выступаю" я. — Приказы ваши выполнять обязан, а советы оставьте для своих друзей.