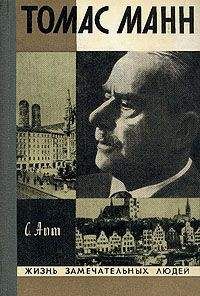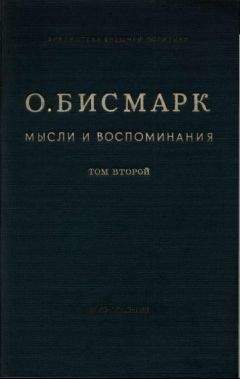Генрих Манн изобразил военную службу в кайзеровской Германии как важнейшую ступень в формировании верноподданных империализма. Герой его романа, Дидерих Гесслинг, убеждается, «что все здесь — обращение, особый жаргон, муштра — сводится к одному: вышибить, насколько это возможно, чувство личного достоинства... Здесь не было даже тех коротких минут задушевности, когда человек вправе был вспомнить, что он человек. Всех и каждого круто и неуклонно низводили до положения тли, ничтожной частицы, теста, которое месит чья-то гигантская воля». «Верноподданный» Гесслинг, трусливо увильнув от военной службы, никому в этом не признается, наоборот, он с демагогическим бесстыдством хвастает своим героизмом, сочинив историю о том, как его ушибла лошадь, как плакал, прощаясь с ним, капитан, и т. п. Нелепой бестактностью с нашей стороны было бы проводить какие-либо параллели между ничтожным Гесслингом, фигурой к тому же гротескной и сатирической, и Томасом Манном. Но сам Томас Манн, описывая в письме к брату свои впечатления от кратковременного военного эпизода, отмечает как раз психологический контраст между собой и людьми типа Гесслинга: «Главное воспоминание — это чувство безнадежной оторванности от цивилизованного мира, ужасного внешнего гнета и в связи с этим необыкновенно острого наслаждения внутренней свободой — например, когда я в казарме, за чисткой винтовок (чему я так и не научился) насвистывал из «Тристана». Но, конечно, твой верноподданный так этого не воспримет. Даже если он чувствует ко всему этому бюргерское нерасположение, он должен, по моим наблюдениям над моими товарищами-одногодичниками, и внутренне сразу подчиниться духу этого замкнутого мирка».
С тех пор как пакет с «Будденброками» исчез в почтовом окошке, миновало много недель, а Фишер все молчал и молчал. Сначала автор ждет терпеливо, понимая, что отзыв на такую толстую рукопись не может прийти быстро, но время идет, и каждый новый день неизвестности уменьшает надежду на то, что отзыв будет благоприятный. Автору очень хочется напомнить о себе издательству, поторопить его, но он опасается, что этим ускорит отказ, и предпочитает ждать, тем более что казарменные заботы часто отодвигают тревогу за судьбу романа на второй план.
Наконец, в последних числах октября, приходит письмо от Фишера. «Глубокоуважаемый господин Манн! Я давно бы уже написал Вам, но при моей занятости это не пустяк — одолеть работу почти в 65 печатных листов. Я занимался чтением Вашего труда и дошел до середины. Все, что я мог бы сказать Вам о нем, изложено гораздо лучше в рецензии моего редактора, которую прилагаю, чтобы Вы ознакомились с ней. Если Вы найдете возможным сократить Ваше произведение примерно наполовину, то в принципе я весьма склонен издать Вашу книгу. Роман в 65 убористо напечатанных листов по нынешней нашей жизни — вещь почти невозможная; не думаю, чтобы нашлось много читателей, у которых есть время и желание сосредоточиться для восприятия романа такого объема. Я знаю, что предъявляю Вам чудовищное требование и что это, может быть, означает для Вас написать книгу совершенно заново, однако, как издатель, я не могу отнестись к этому вопросу иначе». Томас Манн отвечает Фишеру из гарнизонного лазарета. Он пишет карандашом, волнуясь и торопясь. Он отказывается сократить книгу, объявляя ее непривычно большой объем существеннейшей ее особенностью. «Письмо это... — вспоминает он через тридцать лет, — не замедлило оказать желанное действие».
С расстояния в тридцать лет год, истекший со дня отправления этого письма до дня выхода «Будденброков», кажется Томасу Манну ничтожным сроком. Но в ту зиму он, безусловно, не сказал бы, что его письмо «не замедлило» повлиять на решение издательства. Самая трудная пора неопределенности настала для него как раз после этого отклика Фишера. И если автор уже и раньше остерегался ускорять решение издательства, то теперь, когда позиции обеих сторон выяснились, он почти уверен, что малейшая его настойчивость заставит Фишера немедленно вернуть рукопись. А это было бы гораздо более серьезным поражением, чем обычная практическая неудача. Для него, по-настоящему еще, как он смел думать, не оцененного, — ведь сам он понял, кто он такой, чего хочет и чего не хочет, только во время работы над «Будденброками», — это было бы, несмотря на следовавшие за деловой частью фишеровского письма похвалы его литературному мастерству, компетентным отказом в признании.
Фишер умолкает опять, и надолго.
Снова идут недели, и ожидание становится все более тревожным. Письма, которые Томас Манн пишет теперь своим близким, отражают это нарастание нервозности поистине с точностью графика. Вот несколько выписок. Ноябрь: «О своем романе я еще ничего не знаю». Конец ноября: «О «Будденброках» все еще никаких новостей». Декабрь: «Если бы я только знал, что станется с «Будденброками»! Я твердо знаю, что там есть такие главы, какие сегодня не каждый напишет, и все-таки я боюсь, что покупателя на свой товар не найду». Начало января: «Фишер, как я сказал, молчит, а если я напомню о себе, то, наверно, мне сразу же вернут моего ублюдка. Что, если книгу никто не возьмет? Тогда я, кажется, пойду служить в банк. У меня иногда бывают такие приступы».
Денежные его дела сейчас тоже плохи. Нужно рассчитаться с портным за штатское платье, а мать собирается уменьшить пособие в первую четверть нового года на 200 марок, чтобы заплатить подоходный налог. Он должен прожить до апреля на 200 марок, которые после этих вычетов у него остаются. Заказав в одном из мюнхенских книжных магазинов книгу по истории итальянского искусства и узнав потом от приятеля — это был уже знакомый нам Граутоф, соредактор по «Весенней буре», — что книга эта «ужасно скучна», он не показывается в магазине во избежание расплаты за опрометчивый заказ. Генрих, недавно с успехом выпустивший в свет свой роман «Страна Шлараффия», зовет брата приехать к нему во Флоренцию, но брату сейчас не до путешествий. Помимо всего прочего, он слишком ослаб физически после гарнизонного лазарета, чтобы тронуться с места.
На эту пору приходятся и другие переживания, которые в сочетании с тревогой за роман вызывают у двадцатипятилетнего писателя известный пересмотр отношения к избранному им пути — пути искусства и накладывают на рубеж 1900—1901 годов печать глубокого личного кризиса. «Когда наступит весна, — пишет он Генриху в феврале, — позади у меня будет зима, неслыханно тревожная внутренне. Депрессии действительно скверного характера с совершенно серьезными планами самоубийства сменялись неописуемым, чистым и неожиданным душевным счастьем, переживаниями, которые невозможно рассказать и намек на которые произвел бы, конечно, впечатление хвастовства. Но одно они мне доказали, эти очень нелитературные, очень простые и живые переживания — что во мне вcе-таки есть еще что-то честное, теплое и доброе, а не только «ирония», что еще не все во мне опустошено, изверчено и сожрано литературой. Ах, литература — это смерть! Никогда не пойму, как можно быть под властью литературы, не ненавидя ее люто! Самое главное и самое лучшее, чему она способна меня научить, — это смотреть на смерть как на возможность прийти к ее противоположности, к жизни».