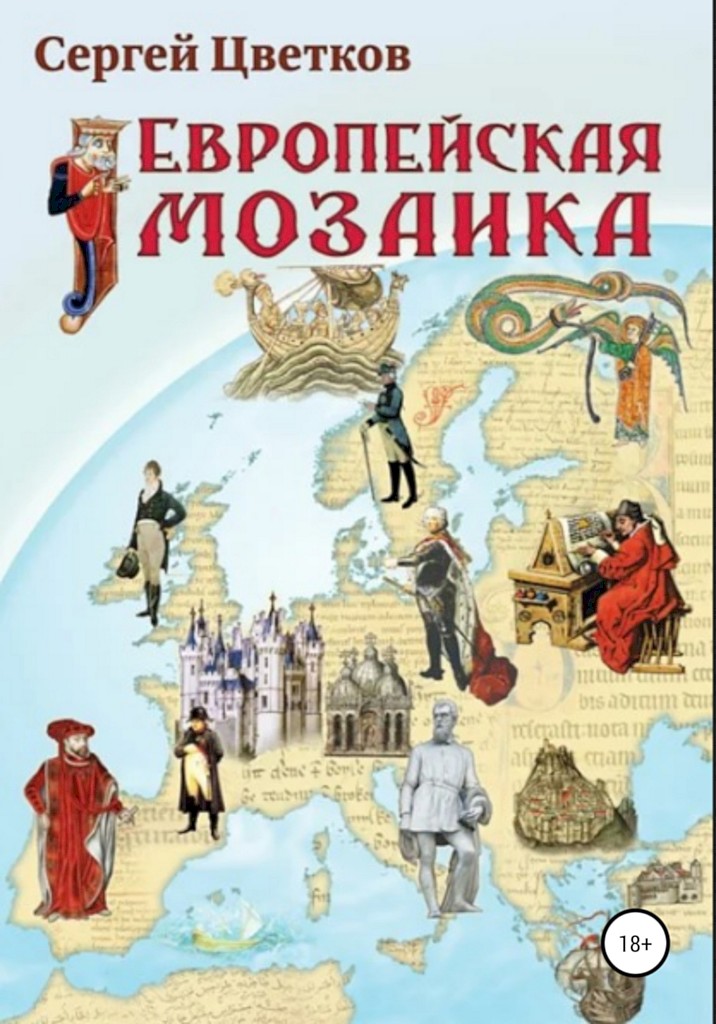поясом. Выдающимися качествами Рустам не блистал; был, как и полагается мамелюку, храбр, наблюдателен, расторопен в услугах. Интерес к нему раздували. «Moniteur» [52] печатал отзывы «дикаря» о премьерах драм, каждый живописец, желающий поправить свои дела, спешил снять с него портрет, который затем воспроизводился гравюрой в тысячах экземпляров. Получить согласие мамелюка на сеанс было нелегко. Падчерица Наполеона Гортензия Богарне однажды воспользовалась падением Рустама с коня, чтобы выпросить у прикованного к постели героя несколько сеансов, а чтобы он не скучал, она напевала ему веселые песенки. Всякий турист спешил повидать знаменитость. «У Рустама красивая фигура и добродушное выражение лица, — записал в путевом дневнике один из них. — Цвет лица его не очень смуглый. Он высок и дороден». Впрочем, слава Рустама не выходила за пределы той популярности, которая выпадает на долю некоторых вещей знаменитых людей.
Он привык к известности, но не испортился нравом, сохранив привлекательную наивность. Престиж его устоял до самого падения Наполеона, несмотря на нелепые попытки роялистов приписать ему свирепость характера и роль палача при корсиканском чудовище. Все же европейская цивилизованность убила в нем главную добродетель мамелюка — верность [53]. В оправдание Рустама можно сказать лишь то, что он вряд ли отдавал себе отчет в своих поступках.
Впустив по условному стуку камердинера, Рустам тотчас запер за ним дверь. Они неодобрительно посмотрели друг на друга — при полном взаимном равнодушии испытывали в отношениях некоторую брезгливость. Констану было непонятно доверие Наполеона к этой наряженной кукле; Рустам же просто не обращал внимания на мужчин без шпаги (этого к тому же про себя называл почему-то «евнухом»), Констан покосился на вделанный в стену шкаф: когда-то он настоял, чтобы для большей чистоплотности и опрятности помещения мамелюк спал в нем. Сейчас дверцы шкафа были плотно прикрыты, однако Констану все равно казалось, что постель внутри не убрана. Малейшая неопрятность пробуждала в нем глухую ярость — качество, некогда чрезвычайно ценимое Жозефиной.
Констан подошел к зеркалу, чтобы в последний раз перед входом к императору хорошенько осмотреть платье (Наполеон не переносил небрежности в одежде у слуг). Французский фрак из зеленого сукна с золотым шитьем на отворотах и воротнике, белый кашемировый жилет, черные брюки и шелковые белые чулки — все выглядело безупречно. Он еще раз покосился в сторону шкафа — определенно постель не убрана! — и одновременно с боем настенных часов громко сказал, постучав в дверь императорской спальни:
— Ваше величество, пора вставать, пробило семь часов!
Наполеон предпочитал спать в спальне на антресолях (была еще одна, внизу), где чувствовал себя необычайно покойно. Над этой комнаткой трудились сразу две знаменитости: Фонтен и Персье [54]. Стены были украшены обоями из лионской парчи, панели — золотым орнаментом; лепные пилястры окаймляли дверные и оконные проемы. На позолоченном потолке теснились мощные фигуры Юпитера, Марса, Венеры и Аполлона, выписанные в два цвета с золотом на лазоревом фоне; крылатые гении поддерживали пышные гирлянды с гербом, императорскими вензелями и трофеями. Кровать стояла на возвышении, обшитом бархатом, в глубине комнаты, напротив окна. Мебели почти не было, кроме нескольких позолоченных и покрытых гобеленами кресел и огромного комода, обитого медью. Возможно, кто-нибудь иной предпочел бы, чтобы спальный уют был менее помпезен, но Наполеон не мог представить, что великолепие может быть чрезмерным. В воззрениях на искусство император французов ничем не отличался от других коронованных особ, по недоразумению застрявших на страницах истории. К тому же, подобно всем основателям династий, Наполеон преувеличивал влияние пышности на верноподданнические чувства подчиненных.
Император открыл глаза при первых звуках голоса камердинера — обладал способностью мгновенно переходить от сна к бодрствованию. Вообще, некоторые его физиологические особенности уже тогда порождали множество легенд. Так, утверждали, что он спит три-четыре часа в сутки. Действительно, природа со времен Цезаря не создавала более совершенного организма, приспособленного для власти над миром: физических и умственных перегрузок для Наполеона, казалось, не существовало. Сам он с гордостью говорил, что не знает пределов своей работоспособности. И в самом деле, когда это было нужно, Наполеон мог спать и три, и два часа в сутки, мог не спать несколько дней кряду, сохраняя физическую бодрость и ясность мысли. Но в обычных условиях Наполеон скорее не давал спать другим, сам же спал, и хорошо спал. Крайнее утомление подчиненных рассматривал как неизбежный результат (если не причину) добросовестного выполнения своих обязанностей. Темп работы Наполеона истощал людей за считанные месяцы. Вряд ли он шутил, когда заявлял, что его министр должен начать страдать задержкой мочеиспускания через три месяца после вступления в должность. Однажды он увидел своего секретаря заснувшим над письмом к жене. «Дорогая, — прочитал император, — сегодня я снова не смогу прийти обедать домой; меня уже третьи сутки не выпускают из дворца». Наполеон только хмыкнул: «Однако у него еще есть силы, чтобы нежничать!» Себе он без особой надобности никогда не отказывал в крепком семичасовом сне, несколько минут дремал и после полудня (мгновенно засыпал в то время, которое сам себе назначал) — только так мог восстановить огромные затраты энергии ума и тела. Не любил ночных пробуждений; приказывал будить себя только при плохих новостях, хорошие подождут до утра.
Проснувшись, Наполеон с удовольствием ощутил в теле желанную бодрость. На всякий случаи проверил: глубоко вздохнул и прислушался к внутренним ощущениям, — нет, кажется, в самом деле, все хорошо. Последние два года его здоровье стремительно ухудшалось. Он страдал желудочными спазмами со рвотой, болями при мочеиспускании, его бил упорный, сухой кашель. Злые языки приписывали эти недомогания сифилису. Врачи говорили разное; он не верил ни одному, даже Корвизару, пользовавшему пол-Парижа. Когда кто-нибудь при нем называл медицину наукой, император смеялся и говорил, что каждый случай излечения следует считать чудом. Был твердо уверен в том, что человеческий организм — это часы без механизма подзавода, которые остановятся тогда, когда им будет положено остановиться, если только врачи не приблизят этот срок. Да и чем могли помочь эти смешные люди, чья наука предписывала полный покой ему — человеку, которого один день вынужденного безделья изнурял больше целого года нечеловеческого труда!
Прилив бодрости Наполеон приписал предстоящему сегодня отъезду в армию. Войну и славу любил по-настоящему, не так, как все остальное — власть, деньги, женщин: с отсутствием того или иного не мирился, но переносил легко; отказаться от войны не мог никогда, как никогда не прощал своим маршалам малейшего ущемления своих прав на победу. Часто говорил, и был вполне искренен, что охотно променял бы бессмертие души на бессмертие своего имени. Говорил