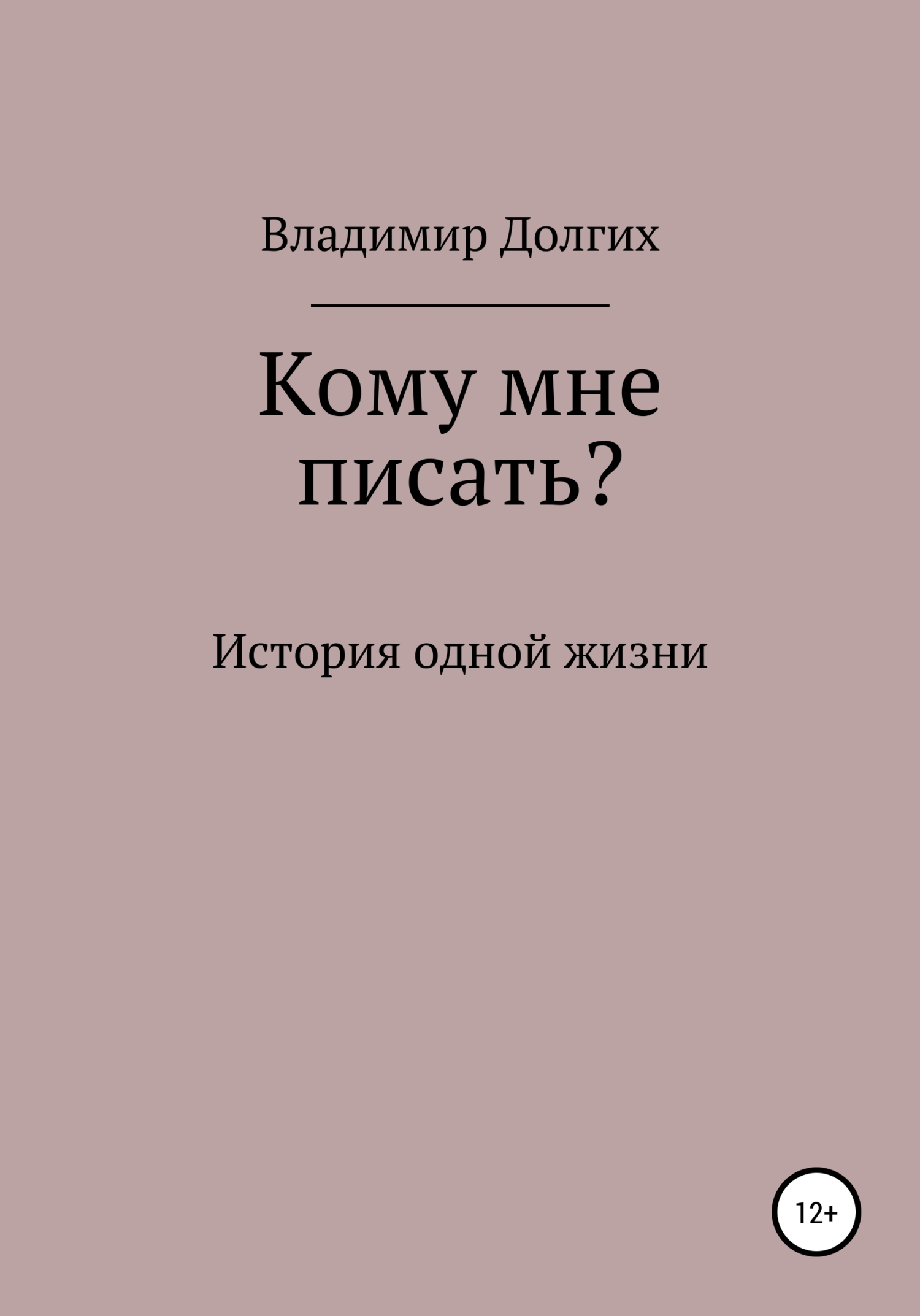с ним вопросов уже не оставалось и мне нужно было просто принять его неизбежность, точно наступление зимы. Но что-то во мне постоянно вопило «нет, нет, нет», и однажды, когда мы возвращались из Вашингтон-сквер-парка, я спросила: «Дженни, а как же мы, все те, кто тебя любит?» – имея в виду себя, Джин и других ее друзей, которых я не знала, но всегда себе представляла. Дженни привычно высокомерно тряхнула длинными косами, нахмурила густые брови над большими темными глазами и произнесла своим самым повелительным тоном: «Ну, видимо, вам самим придется о себе позаботиться, так?» Внезапно мой вопрос показался мне ужасно глупым, и я не нашлась, как ей ответить.
Для смерти Дженни выбрала последний день августа. Мокрую, дождливую субботу, когда я лежала на диване в полумраке гостиной, обнимала подушку и молила бога не дать Дженевьев умереть. Я не общалась с богом довольно долго и не очень-то верила в высшие силы, но тут хваталась за любую соломинку. В остальном я чувствовала себя бессильной что-то изменить.
Я пообещала не воровать деньги на воскресный церковный сбор и наконец-то после стольких лет пойти исповедаться.
Это была суббота накануне первого сентября, и лето подходило к концу. Всё лето Дженни говорила, что перережет себе вены в конце лета.
Именно так она и сделала.
Бабушка нашла ее, курившую окровавленную сигарету в ванне, полной теплой и уже покрасневшей воды.
После этого мы не виделись две недели, но каждый день говорили по телефону. Дженни уверяла, что злится на себя за провал, но исходом довольна. Луиза разрешила ей поехать жить к Филу и Элле.
Я же была благодарна за то, что она осталась жива. Какое-то время ходила на воскресную мессу, нашла церковь подальше от дома, в Ист-сайде, и там же исповедалась.
Стремительно наступила осень. Мы с Дженни встречались редко, так как ходили в разные школы. По телефону я говорила ей, что скучаю. Как я подозревала, жизнь у Фила с Эллой сильно отличалась от Луизиного быта, но Дженни не очень-то хотела это обсуждать. Иногда я навещала ее в новой квартире, мы сидели на тахте в комнате Фила и Эллы, пили шампанское и ели зефирки, нанизывая их на карандаш и подпаливая спичкой. Чтобы прожарить их по краям, надо было постоянно поддувать пламя.
Но в их доме меня охватывало какое-то тягостное ощущение, и Дженни там всегда казалась другой – может, потому, что я часто слышала, как Элла шпионит за закрытой дверью, подметая или вытирая пыль. Казалось, она, в вечных тапочках и с тряпичной повязкой на голове, только и делает, что прибирается, напевая себе под нос одну и ту же мелодию снова и снова, снова и снова.
Мы не могли пойти ко мне, так как мои родители не разрешали приводить гостей, когда их не было дома. Они и вообще друзей не одобряли, и Дженни им не особо нравилась: мать считала ее слишком «громкой». Поэтому обычно мы встречались на Коламбус-Сёркл или в Вашингтон-Сквер, и грубые, странные, чужеродные цвета, что потихоньку заметали наши тропинки, скрывались под покровом золотых листьев.
Без Дженни школой Хантер завладели другие миры. В основном той осенью всё наполняла Максин – ее музыка, лечение прыщей и безответная влюбленность в заведующую музыкальным отделением. Это отлично совпало с моими чувствами к новенькой учительнице английской словесности с очаровательно неправильным прикусом, носившей костюмы и туфли на плоской подошве. Мы постоянно попадали в неприятности из-за того, что после уроков тусили у шкафчиков.
Непонятно, в чём конкретно нас обвиняли, но мы знали, что это место – единственное, где можно побыть одним, то есть без матерей, – считалось запретным. Нам обеим не хотелось возвращаться домой, к семейным войнам. У шкафчиков открывалось наше с Максин личное пространство. Порой, слоняясь там, мы попадали в частные миры других дезертировавших, что по двое шептались в проходах, пока мы пробегали мимо.
Я давала галантного кавалера и нахально и отважно давила шустрых твердых тараканов, что сновали туда-сюда, будто скакали на лошадках. Это было привычное явление: насекомые. А рядом орава застывших на месте орущих девочек. В обществе раздевалки я прослыла официальной тараканоубийцей, что и саму меня сделало храбрее. Однажды я даже убила глянцевитого американского таракана длиной сантиметров в десять. Всё это происходило за годы до того, как я впервые призналась кому-то, как сильно их боюсь. Слишком важно было казаться бесстрашной ответственной молодчиной, чемпионкой – победительницей тараканов, которой все рукоплескали.
Возможно, смелость в том и заключается, что больше самого страха ты боишься оказаться несмелой.
В конце января мы с Дженни из-за чего-то поссорились. Не разговаривали и не виделись две недели. В мой день рождения она позвонила, а в день рождения Вашингтона, несколько дней спустя, мы встретились. Держась за руки, наблюдали за обезьянами в зоосаду Центрального парка. Мандрил глядел на нас огромными печальными глазами, и мы с ним согласились: независимо от того, злимся или нет, никогда больше не будем играть в молчанку так долго – дружба важнее; к тому же ни одна из нас не могла вспомнить, в чём причина ссоры.
Потом мы отправились к ней домой. Начался снег, мы лежали на диване – голова Дженни у меня на животе, – жарили зефирки и курили сигареты. Спальня была единственной уединенной комнатой в доме. Дженни спала на тахте в гостиной, кроме тех случаев, когда у них оставался ее дядя: тогда приходилось укладываться на полу. Ее бесило не иметь ни своей постели, ни платяного шкафа – так она сказала.
Была середина марта, когда Дженни пришла к нам однажды вечером. Позвонила и сказала, что ей нужно со мной поговорить, – можно зайти? Мать неохотно согласилась. Я придумала, что мы будем готовиться к экзамену по геометрии. Дженни появилась почти в девять вечера. Не самое подходящее время для гостей – в будний-то день, как ядовито заметила мать в ответ на ее приветствие.
Мы укрылись в моей комнате, закрыв за собой дверь. Дженни выглядела ужасно. Под глазами круги, по обе стороны лица – длинные уродливые царапины. Обычно аккуратные, длинные косы растрепались и сбились. Она лишь объяснила, что они с отцом повздорили, теперь ей негде ночевать и больше она об этом говорить не хочет. Спросила, можно ли остаться у меня. Я знала, что это невозможно. Родители бы ни за что не позволили, да еще и стали бы выпытывать зачем. Я мучилась, но понимала, что и без того нарвалась с этим визитом.
– Разве ты не можешь пойти к Луизе? – спросила я. Какой отец