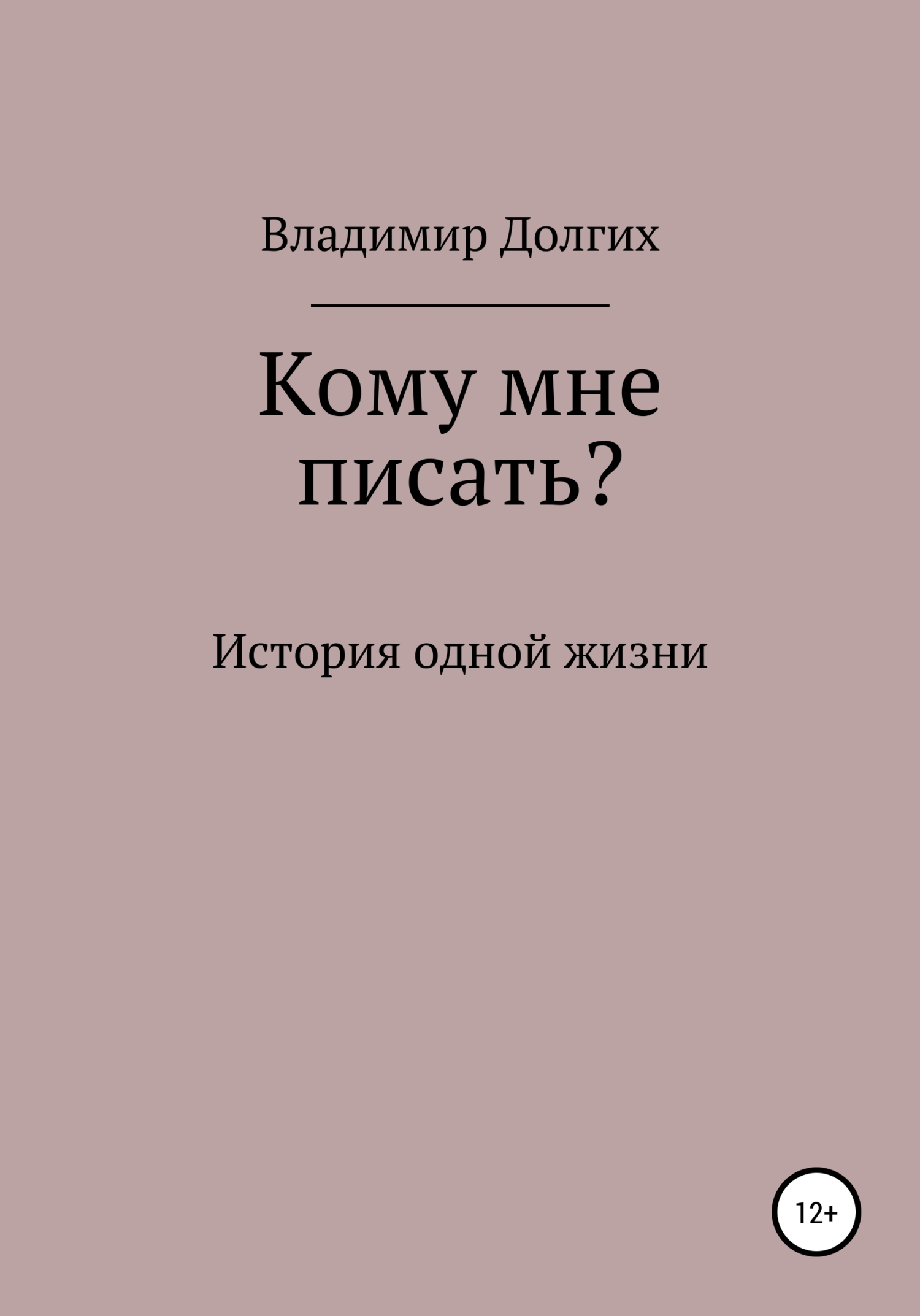так исцарапает свою дочь? – Дженни, только не возвращайся к ним, пожалуйста.
Она посмотрела на меня так, будто я ничего не понимаю, но в голосе ее не было обычного нетерпения. Выглядела она усталой.
– Я не могу туда вернуться, для меня там уже нет места. Мать переделала спальню и всё остальное и к тому же сказала, что я должна выбирать. Вот я и выбрала. Она сказала, что если я уйду к Филиппу, назад мне хода не будет. А сейчас Элла уехала на юг к матери, и отец с дядей Ледди всё время пьют. А когда Филипп пьет, он не знает, что…
Казалось, Дженни сейчас заплачет, и мне стало ужасно страшно. Из гостиной подала голос мать, с нажимом предупреждая:
– Уже девять тридцать. Вы как там, дети, закончили? Вы точно уроки делаете на ночь глядя?
– Дженни, почему бы тебе хотя бы ей не позвонить? – умоляла я. Всё равно ей скоро придется уйти. Еще минута – и мать дружелюбно ворвется к нам.
Внезапно собравшись с духом, Дженни порывисто встала.
– Я же сказала – нет! Не могу говорить с матерью о Филе. Иногда он совсем чокнутый, – она потрогала пальцем царапины на лице. – Ладно, мне пора. Встретимся в Хантер в пятницу после твоих экзаменов, окей? Когда ты закончишь? – она надевала пальто.
– В полдень. Что ты будешь делать, Дженни? – ее вид меня беспокоил, но я испытывала и облегчение от того, что она собирается идти. Мне уже ясно представлялось, какая сцена между мной и матерью разыграется после ее ухода.
– А, забей. Пойду к Джин. Удачи на экзаменах. Увидимся в пятницу около входа на 68-й улице в полдень, – я пошла проводить ее до двери, и мы вместе прошмыгнули через гостиную.
– Приветствую, Дженевьев, – строго сказал отец и уткнулся в газету. Он в такие дела без нужды не лез, разве только мать одна не справлялась.
– Доброй ночи, милочка, – елейно попрощалась мать. – Твой отец не против, что ты ездишь сама в такую поздноту?
– Нет, мэм. Я сразу сяду на автобус до маминого дома, – складно соврала Дженни, одарив ее одной из своих самых радужных улыбок.
– Ну, время ночное, – мать легонько, с укоризной хмыкнула. – Желаю добраться до дома в целости и сохранности, и маме своей передай от меня доброй ночи.
Я заметила, что она внимательно рассматривает расцарапанное лицо Дженни, и поскорее вытолкала подругу в коридор.
– Пока, Дженни, и поосторожнее там.
– Не глупи, мне осторожность ни к чему. Мне бы выспаться хорошенько.
Я заперла за ней дверь.
– Что такое с твоей подружкой? – мать пристально посмотрела на меня поверх очков.
– Ничего, мама. Мне нужны были ее конспекты по геометрии.
– Ну, на это у вас в школе был целый день. Пришла домой – и тебе загорелось получить конспекты по геометрии, когда ночь на носу? Ну-ну, – мать явно мне не верила. – Давай-ка сюда свое постельное белье, если хочешь, чтобы я его завтра постирала, – она встала, отложив шитье, и последовала за мной через гостиную.
Интуиция матери за что-то цеплялась, но она не стала разбираться, за что именно. Мать не умела сомневаться в своих предчувствиях, я не умела придать значения озабоченности в ее голосе. И как только она посмела идти со мной в мою комнату, безапелляционно напоминая, что в этом доме ни одно место не является для нее неприкосновенным!
Мать чуяла беду, но беспокоилась она безосновательно, ведь опасность грозила не мне.
Она быстро и рассеянно порылась в моем грязном белье, вытянула на пальце ночную рубашку.
– Тебе нечего надеть кроме этого рванья, что ты называешь ночнушкой? Скоро и по улице так пойдешь, руками прикрывшись: одна сзади, другая спереди.
Она отбросила ее, пока я собирала в стирку остальное.
– Слушай, милая детка, дай-ка скажу тебе важное – ради твоего же блага. Не путайся ты с этой девчонкой и от родителей ее с их делишками держись подальше, поняла? Что за полоумная женщина… Как только пустила ее к этому негоднику, что себя отцом называет…
Моя мать встретила как-то Фила Томпсона на улице, когда мы шли покупать одежду для школы. Дженни с гордостью его представила, а тот, как обычно, держался поверхностно и обходительно.
Мать забрала грязное белье у меня из рук.
– Ну, ладно. Слушай. Я не хочу, чтобы ты с этой девчонкой околачивалась допоздна. Что бы там с ней ни происходило, она напрашивается на неприятности. Запомни мои слова. Я ни на секунду не удивлюсь, если ее кто обрюхатит…
Я почувствовала, как завеса гнева застит мне взгляд.
– Мама, у Дженевьев всё в порядке, и вообще она не такая, – я пыталась говорить спокойно. Ну как можно сказать о Дженни что-то подобное? Мать ее совсем не знает. Ведь это я с ней дружу.
– Так, девушка, чтоб я такого тона в разговорах с матерью не слышал, – сурово пригрозил мне из гостиной отец.
Настоящая или воображаемая дерзость по отношению к матери считалась смертным грехом, из-за которого отец всегда покидал свою позицию нейтрального наблюдателя в нашей с ней войне. Он уже собрался вмешаться и на этот раз, чего мне хотелось меньше всего.
Одна из сестер печатала доклад. Стаккато клавиш доносилось из их комнаты сквозь французские двери, отделявшие ее от гостиной. Интересно, доехала ли Дженни до Джин. Если сейчас поссорюсь с родителями, то после экзаменов придется сразу идти домой. Я проглотила ярость, и она застряла тухлым яйцом на полпути между животом и гортанью. Во рту стало кисло.
– Я не хотела повышать голос, папочка. Извини, мама, – я выглянула в гостиную. – Спокойной ночи.
Я почтительно поцеловала обоих и вернулась в относительную безопасность своей комнаты.
Мы не плакали о том, что было когда-то дитя
Не плакали о том, что было когда-то дитя
Не плакали о том, что было
О глубокой темной тишине
Которая ела плоть юную
Но плакали от вида двух людей наедине
Плоско по небу, наедине,
Стелящих землю как покрывало,
Чтобы кровь молодая не взошла.
Мы видели себя в темном теплом материнском одеяле
Видели себя глубоко в груди земли разбухая
Не молодыми уже
И знали себя впервые
Мертвыми, одинокими.
Не плакали о том, – плакали о том –
Не плакали о том, что было когда-то дитя.
22 мая, 1949
Чего мы с Дженевьев так никогда и не сделали: не позволили нашим телам соприкоснуться