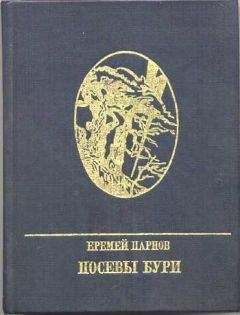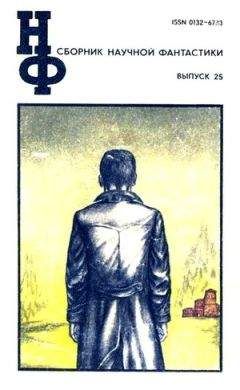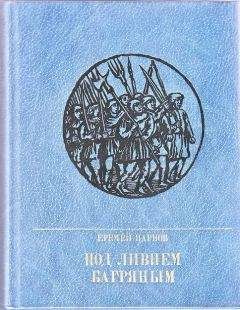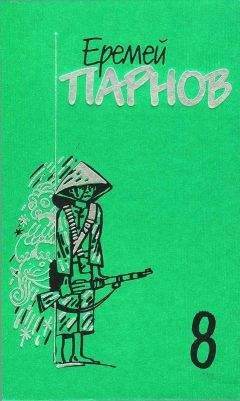— Слушаю вас, господин губернатор.
— Вы не можете жаловаться на правительство, Иван Христофорович. В отношении вас оно проявило максимум терпения и гуманности. Не так ли? — Остановившись за шаг до окна, Пашков резко повернулся и вопрошающе взглянул на Плиекшана. — Вы и сами согласны, — не дождавшись ответа, продолжал он как ни в чем не бывало. — Ваше прошение удовлетворили, и ссылка была сокращена.
— Мне зачли пребывание под гласным надзором в Пскове.
— Но могли бы и не зачесть? Верно? Но, как бы там ни было, все это прошлое. Главное — вы дома, на родной земле.
— Где по-прежнему встречаю ограничения.
— Минимальные, господин Плиекшан, будьте справедливы, и, чего греха таить, заслуженные. Ничего не поделаешь, закон есть закон, хоть он и суров! Dura lex, sed lex. Мы принадлежим с вами к одной корпорации и знаем это лучше других. Все в жизни имеет свои последствия.
— О чем вы, ваше превосходительство?
— О вас, Иван Христофорович, только о вас. Мне не слишком приятно огорчать вас дурными новостями, но ничего не поделаешь. — Пашков развел руками, сочувственно вздохнул и, пройдя к рабочему столу, взял бумагу с казенным грифом. — Нами получено распоряжение Отдела цензуры Управления по делам печати, в котором содержится буквально следующее. — Он водрузил на нос пенсне и с четкой дикцией профессионального правоведа зачитал: — «Не разрешать на будущее время к печати новым изданием сборника латышских стихотворений под заглавием „Далекие отзвуки в синем вечере“, тщательно наблюдая, чтобы упомянутый сборник не появлялся в печати и под другим заглавием». Вот тэк-с. — И широким жестом бросил бумагу на зеленое сукно стола. Все равно как ставку в рулетку сделал.
— Чем обязан столь беспрецедентно суровой мере в отношении давно вышедшего и дозволенного к печати сборника? — помедлив с минуту, спросил Плиекшан.
— Губернские власти здесь ни при чем! — поспешил отмежеваться губернатор. — К сожалению, вы навлекли на себя гнев и возмущение многих как частных, так и должностных лиц, — несколько туманно разъяснил он. — Из разных слоев общества.
— Это не основание, ваше превосходительство. Не юридическое основание.
— Опять же, к нашей общей печали, вы дали повод к проявлению негативных чувств. Я же говорю, что последствия неосмотрительных деяний продолжают долго мстить потом. — Пашков все расхаживал по кабинету, словно каждый раз наново вымерял его шагами.
— Книга прошла предварительную цензуру, — стоял на своем Плиекшан.
— Бывает и так, — Пашков сокрушенно вздохнул. — Цензоры тоже ошибаются. Всякий непредубежденный человек, прочитав ваш «Страшный суд», просто рассмеется, если вы начнете его уверять, будто имели в виду бога, карающего грешников.
— Никого и ни в чем уверять не намереваюсь. — Плиекшан сжал зубы. — Стихотворение говорит само за себя.
— Вот именно! — обрадовался Пашков. — А ваш цензор, господин Ремикис, пытался доказывать, что вы написали новое Откровение Иоанна, Апокалипсис!
— Цензоров себе не выбирал и не в ответе за них.
— Что верно, то верно, Иван Христофорович, — неожиданно согласился губернатор и присел напротив Плиекшана за курительный столик. — Но я, собственно, о другом намеревался с вами переговорить… «Всех самых юных, крылатых всех, стопой чугунной раздавит век». Страшно, как конец света, хоть это и не реминисценции из Апокалипсиса. Здесь мы оба согласны. Я о другом хочу. Мы обсуждали с вами единство причин и следствий. Здесь оно, именно здесь. Ваша бездумно брошенная на ветер ненависть вернулась назад. Нетерпимость ваших стихов разбудила ответное чувство у людей, которым они адресовались. И вот ответ, — он указал на стол, где лежало свернувшееся в трубку цензурное предписание. — Чего же вы тогда добивались? Думали, наверно, разбудить своей лирой массы? Бросить хижины на дворцы? Задумайтесь над последствиями своих поступков, господин Райнис. Стихия гнева неуправляема. Ее опасно дразнить. Разве вам не ведомо, что и революции пожирают собственных сыновей?
— Я подумаю над вашими словами, господин губернатор, — сказал Плиекшан, поднимаясь. — Я подумаю. Позвольте поблагодарить за приятную беседу.
— Это мне должно благодарить! — с живостью спохватился Пашков, усаживая Плиекшана обратно. — Погодите, Иван Христофорович, позвольте еще на пяток минут отлучить вас, так сказать, от муз.
— Извольте. — Плиекшан сел, не прикасаясь к спинке стула, прямой и напряженный. — Прошу вас.
— Скажите мне откровенно, Иван Христофорович, не как администратору, а как частному лицу, наконец, просто хорошо расположенному к вам человеку. — Он сосредоточенно поиграл гильотинкой для обрезания сигар. — Каковы ваши финансовые обстоятельства? Меня беспокоит, не пострадаете ли вы материально от мер цензуры? Впрочем, что я спрашиваю? Конечно же пострадаете! — Сочувственно поцокал языком. — Весь вопрос, насколько серьезно?
— Благодарю, ваше превосходительство. — Плиекшан холодно улыбнулся. — Но не стоит беспокоиться.
— Как же не стоит! — запротестовал Пашков. — Как коллега коллеге…
— Право, не стоит, — осадил его нетерпеливым движением руки Плиекшан. — Сугубо частное дело. — Он уже не участвовал мыслью в этом никчемном разговоре.
Плиекшан не раз встречал подобных Пашкову либеральных вельмож, которые, казалось, сами стыдились своей власти и были готовы по мере сил творить добро. Излучая благожелательность и участие, они даже решались порой на критику существующего порядка — tete-a-tete, разумеется! — и с брезгливой миной, но удивительно настойчиво и последовательно исполняли циркулярные предписания. Вот и господин Пашков взывал ныне к поднадзорному политическому, как к своему коллеге. Эгоистичное, даже несколько наивное лицемерие. Неужели сам он не ощущает неловкости своего поведения? Не понимает, что нет и не может быть взаимопонимания у смертельных врагов, даже если и возникнет между ними непроизвольная симпатия?
Плиекшану вспомнилась клятва, которую он, глотая слезы, принес на Фелькерзамовом пригорке, где так беззаботно игралось ему в далекие детские годы. В то утро кончилось его детство. «Убейте меня! Убейте, добрые люди!» — рычал, катаясь в пыли, батрак Оскар, прозванный бунтарем. Черное от крови лицо и золотистые мухи, облепившие жуткие красные дыры, оставшиеся от ясных насмешливых глаз.
Оскар выбросил из окна пьяного егеря, когда тот при всех полез к батрачке. А на другой день четверо егерей подстерегли Оскара-бунтаря у большака, связали и утащили в лес… Барон замял дело, и виновных, как водится, не нашли. Маленький Янис поклялся тогда, что выучится на адвоката и будет повсюду отстаивать справедливость. Знанием законов и красноречием он надеялся добиться той самой всеобщей справедливости, о которой так мечтал беспокойный Оскар. Годы и годы прошли, и, уже учась на юридическом факультете университета, Ян Плиекшан понял, как может обернуться издевательским фарсом даже самый мудрый закон. Оскар со связанными руками часто снился ему по ночам.