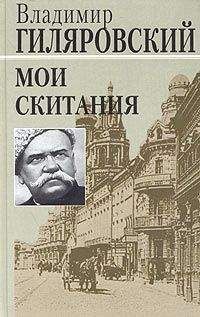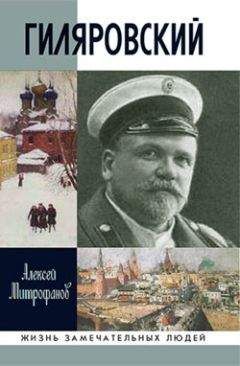— Спускайтесь вниз!
Но сам не успевает пробраться к лестнице и, вижу, проваливается. Я вижу его каску наравне с полураскрытой крышей… Невдалеке от него вырывается пламя… Он отчаянно кричит… Еще громче кричит в ужасе публика внизу… Старик держится за железную решетку, которой? обнесена крыша, сквозь дым сверкает его каска и кисти рук на решетке… Он висит над пылающим чердаком… Я с другой стороны крыши, по желобу, по ту сторону решетки ползу к нему, крича вниз народу:
— Лестницу сюда!
Подползаю. Успеваю вовремя перевалиться через решетку и вытащить его, совсем задыхающегося… Кладу рядом с решеткой… Ветер подул в другую сторону, и старик от чистого воздуха сразу опамятовался. Лестница подставлена. Помогаю ему спуститься. Спускаюсь сам, едва глядя задымленными глазами. Брандмейстера принимают на руки, в каске подают воды. А ствольщики уже влезли и заливают пылающий верхний этаж и чердаки.
Меня окружает публика… Пожарные… Брандмейстер, придя в себя, обнял и поцеловал меня… А я все еще в себя не приду. К нам подходит полковник небольшого роста, полицмейстер АлкалаевКарагеоргий, которого я издали видел в городе… Брандмейстер докладывает ему, что я его спас.
— Молодец, братец! Представим к медали.
Я вытянулся посолдатски.
— Рад стараться, ваше высокоблагородие. И вдруг вижу, идет наша шестая рота с моим бывшим командиром, капитаном Вольским, во главе, назначенная «на случай пожара» для охраны имущества. Я ныряю в толпу и убегаю.
Прощай служба пожарная и медаль за спасение погибавших. Позора встречи с Вольским я не вынес и… ночевал у моих пьяных портных. Топор бросил в глухом переулке под забор.
И радовался, что не надел каску, которую мне совали пожарные, поехал в своей шапке… А то, что бы я делал с каской, и без шапки. Утром проснулся весь черный с ободранной рукой, с волосами, полными сажи. Насилу отмылся, а глаза еще были воспалены. Заработанный мной за службу в пожарных широкий ременный пояс служил мне много лет. Ах, какой был прочный ременный пояс с широкой медной пряжкой. Как он мне после пригодился, особенно в задонских степях табунных.
* * *
И пришла мне ночью благодетельная мысль. Прошлой зимой приезжали в Ярославль два моих гимназических товарищаодноклассника, братья Поповы. Они разыскали меня в полку, кутили три дня, пропили все, деньги и свою пару лошадей с санями, и уехали на ямщике в свое имение, верстах в двадцати пяти от Ярославля под Романовым Борисоглебском. Имение это они получили в наследство, бросили гимназию, вскоре после меня, и поселились в нем и живут безвыездно, охотясь и ловя рыбу. Они еще тогда уговаривали меня бросить службу и идти к ним в управляющие. Вспомнил я, что по Романовской дороге деревня Ковалеве, а вправо, верстах в двух от нее на берегу Волги, их имение Подберезное.
— Вот и место, — обрадовался я.
Съев из последних денег селянку и растегай, я бодро и весело ранним утром зашагал первые версты. Солнце слепило глаза отблесками бриллиантиков бесконечной снежной поляны, сверкало на обиндевевших ветках берез большака, нога скользила по хрустевшему снегу, который крепко замел след полозьев. Руки приходилось греть в карманах для того, чтобы теплой ладонью время от времени согревать мерзнувшие уши. Подхожу к деревне; обрадовался, увидев приветливую елку над новым домом на краю деревни.
Иван Елкин! Так звали в те времена народный клуб, убежище холодных и голодных— кабак. В деревнях никогда не вешали глупых вывесок с казенноканцелярским названием «питейный дом», а просто ставили елку над крыльцом. Я был горд и ясен: в кармане у меня звякали три пятака, а перед глазами зеленела над снежной крышей елка, и я себя чувствовал настолько счастливым, насколько может себя чувствовать усталый путник, одетый при 20градусном морозе почти так же легко, как одевались боги на Олимпе… Я прибавил шагу, и через минуту под моими ногами заскрипело крыльцо. В сенях я столкнулся с красивой бабой, в красном сарафане, которая постилала около дверей чистый половичок.
— Вытри ногито, пол мыли! — крикнула она мне. Я исполнил ее желание и вошел в кабак. Чистый пол, чистые лавки, лампада у образа. На стойке бочонок с краном, на нем висят «крючки», медные казенные мерки для вина. Это — род кастрюлек с длинными ручками, мерой в штоф, полуштоф, косушку и шкалик. За стойкой полка, уставленная плечистыми четырехугольными полуштофами с красными наливками, желтыми и зелеными настойками. Тут были: ерофеич, перцовка, полыновка, малиновка, рябиновка и кабацкий ром, пахнущий сургучом. И все в полуштофах: тогда бутылок не было по кабакам. За стойкой одноглазый рыжий целовальник в красной рубахе уставлял посуду. В углу на лавке дремал оборванец в лаптях и сером подобии зипуна. Я подошел, вынул пятак и хлопнул им молча о стойку. Целовальник молча снял шкаличный крючок, нацедил водки из крана вровень с краями, ловко перелил в зеленый стакан с толстым дном и подвинул его ко мне. Затем изпод стойки вытащил огромную бурую, твердую, как булыжник, печенку, отрезал «жеребьек», ткнул его в солонку и подвинул к деревянному кружку, на котором лежали кусочки хлеба. Вышла хозяйка.
— Глянька, малый, да ты левое ухо отморозил.
— И впрямь отморозил…
— Давайка снегу.
Хозяйка через минуту вбежала с ковшом снега.
— Нокося, ототри!… Да и щекуто, глядь, щекуто. Я оттер. Щека и ухо у меня горели, и я с величайшим наслаждением опрокинул в рот стакан сивухи и начал закусывать хлебом с печенкой. Вдруг надо мной прогремел бас:
— И выходишь ты дурак, — а еще барин! Передо мной стоял оборванец.
— Дурак, говорю. Жрать не умеешь! Не понимаешь того, что язык— орган вкуса, а ты как лопаешь? Без всякого для себя удовольствия!
— Нет, брат, с большим удовольствием, — отвечаю.
— А хочешь получить вдвое удовольствие? Поднеси мне шкалик, научу тебя, неразумного. Умираю, друг, с похмелья, а кривой черт не дает! Лицо его было ужасно: опух, глаза красные, борода растрепана и весь дрожал. У меня оставалось еще два пятака на всю мою будущую жизнь, так как впереди ничего определенного не предвиделось. Вижу, человек жестоко мучится. Думаю, — рискнем. То ли бывало… Бог даст день, бог даст и деньги! И я хлопнул пятаками о стойку. Замелькали у кривого крючок, стаканы, нож и печенка. Хозяйка, по жесту бродяги, сняла с гвоздя полотенце и передала ему. Тот намотал конец полотенца на правую руку, другой конец перекинул через шею и взял в левую. Затем нагнулся, взял правой рукой стакан, а левой начал через шею тянуть вниз полотенце, поднимая, таким образом, как на блоке, правую руку со стаканом прямо ко рту. При его дрожащих руках такое приспособление было неизбежно. Наконец, стакан очутился у рта, и он, закрыв глаза, тянул вино, повидимому, с величайшим отвращением.