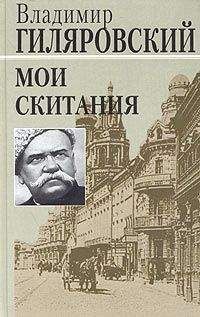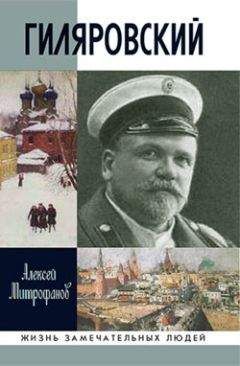Поставив пустой стакан, сбросил полотенце.
— Ой, спасибо!
И глаза повеселели — будто переродился сразу.
— А тебе, малый, не жаль будет уступить… Уж поправляй совсем!
Я видел его жадный взгляд на мой стакан и подвинул его.
— Пей.
И он уж без всякого полотенца слегка, дрожащей рукой ловко схватил стакан и сразу проглотил вино. Только булькнуло.
— Спасибо. Теперь жив. Ты закусывай, а я есть не буду…
Я взял хлеб с печенкой и не успел положить в рот, как он ухватил меня за руку.
— Погоди. Я тебя обещал есть выучить… Дело просто. Это называется бутерброд, стало быть, хлеб внизу, а печенка сверху. Язык — орган вкуса. Так ты вот до сей поры зря жрал, а я тебя выучу, век благодарен будешь в других умуразуму научишь. Вот как: возьми да переверни, клади бутерброд не хлебом на язык, а печенкой. Нука!
Я исполнил его желание, и мне показалось очень вкусно. И при каждом бутерброде до сего времени я вспоминаю этот урок, данный мне пропоицейзимогором в кабаке на Романовском тракте, за который я тогда заплатил всем моим наличным состоянием.
В кабак вошли два мужика и распорядились за столиком полуштофом, а зимогор предложил мне покурить. Я свернул собачью ножку и с удовольствием затянулся махоркой.
— Куда идешь? — спросил меня хозяин.
— Не видишь — на Кудыкину гору, чертей за хвост ловить, — огрызнулся на него бродяга. — Да твое ли это дело! Допрашиватьто твое дело? Ты кто такой?
— Да я к слову…
— За такие слова и в кабак к тебе никто ходить не будет…
— В Романов иду, — сказал я.
— Далеко. Ты, мал, поторапливайся. Ишь метелица какая закурила…
Я пожал руку бродяге, поклонился целовальнику и вышел из теплого кабака на крыльцо. Ветер бросил мне снегом в лицо. Мне мелькнуло, что я теперь совсем уж отморожу себе уши, и я вернулся в сени, схватил с: пола чистый половичок, как башлыком укутал им голову.и бодро выступил в путь. И скажу теперь, не будь этого половика, я не писал бы этих строк.
Стемнело, а я все шел и шел. Дорога большая, обсаженная еще при «матушке Екатерине» березами; сбиться нельзя. Иногда нога уходила до колен в навитые по колее гребни снега.
Метель кончилась. Идти стало легче. Снег скрипел под ногами. Темь, тишина, одиночество. Половик спас меня — ни разу не пришлось оттирать ушей и щек.
Вот вдали огоньки… Темные контуры домов… Я чувствовал такую усталость, что, не будь этой деревни, кажется, упал бы и замерз. Предвкушая возможность вытянуться на лавке или хоть на полу в теплой избе, захожу в избу… в одну… в другую… в третью… Везде заперто, и в ответ на просьбу о ночлеге слышу ругательства. Захожу в четвертую — дверь оказалась незапертой. Коптит светец. Баба накрывает на стол. В переднем углу сидит седой старик, рядом бородатый мужик и мальчонка. Вошел и, помня уже раз испытанный когдато урок, помолился на образ.. — Пустите переночевать, Христа ради.
— Дверьто не заперла, лешая! — зыкнул на бабу бородатый.
— Не прогневайся, не пущаем… Иди себе с богом откуда пришел… Иди уж!…— затараторила баба.
— Замерз ведь я… Из Ярославля пешком иду.
— У меня этакий наслезник топор изпод лавки спер…
— Я ведь не вор какой…— пробовал защищаться я, снимая с шеи и стряхивая украденный половик.
Хозяйка несла из печи чашку со щами. Пахло грибами с капустой. Ломти хлеба лежали на столе.
— Фокыч, пущай он поисть, а там и уходит… А, Фокыч? — обратилась баба к рыжему.
— Садись, поешь уж. Только ночевать не пущу, — сказал рыжий, а старик указал мне место на скамье, где сесть.
Скинув половик и пальто, я уселся. Аромат райский ощущался от пара грибных щей. Едим молча. Еще подлили. Тепло. Приветливо потрескивает, слегка дымя, лучина в светце, падая мелкими головешками в лохань с водой. Тараканы желтые домовито ползают по Илье Муромцу и генералу Бакланову… Тепло им, как и мне. Хозяйка то и дело вставляет в железо высокого светца новую лучину… Ели кашу с зеленым льняным маслом. Кошка вскочила на лавку и начала тереться о стенку.
— Топорто у меня стащил… И заперто было… Сидим это… перед рождеством дело… Поужинали… Вдруг стучит. Если бы знали, что бродяга, в жисть не отперли бы. — Кто это? — спрашиваю. — А он изза дверито: — Нет ли продажного холста?
А холстинато была у нас. Отпираю. Входит так, мужичонка.
— Тебе, спрашиваю, холста? — а он:
— Милостиньку ради Христа! Пустите ночевать да обогреться.
— Вижу, человек хороший… Ночевал… А утром, глядь, нету… Ни его нет, ни топора нет… Вот и пущай вашего брата!…
Кошка играла цепочкой стенных часовходиков, которые не шли.
Чтобы скольконибудь задержаться в теплой избе, я заговорил о часах.
— Давно стоят? — спрашиваю хозяина.
— С лета. Упали както, ну, и стали. А ты понимаешь в часахто?
— Малость смыслю. У себя дома всегда часы сам чиню.
— Ну, паря. А ты бы нашито посмотрел…
— Что же, я, пожалуй, посмотрю… Отвертка есть?
— Стамеска махонькая есть.
Подал стамеску. Хозяйка убрала со стола. С сердечным трепетом я снял со стены ходики и с серьезной физиономией осмотрел их и принялся за работу. Коечто развинтил.
— Темновато при лучинето… Уж я лучше утром… Хозяйка подала платок, в который я собрал части часов.
Улегся я на лавке. Дед и мальчишка забрались на полати… Скоро все уснули. Тепло в избе. Я давно так крепко не спал, как на этой узкой скамье с сапогами в головах. Проснулся перед рассветом; еще все спали. Тихо взял изпод головы сапоги, обулся, накинул пальто и потихоньку вышел на улицу. Метель утихла. Небо звездное. Холодище страшенный. Вернулся бы назад, да вспомнил разобранные часы на столе в платочке и зашагал, завернув голову в кабацкий половик…
* * *
Деревня Ковалево. Спрашиваю у бабы с ведром у колодца, как пройти в Подберезное. Так называлось имение Поповых — цель моего стремления.
— А вот направо просекой, прямо и придешь. Только, гляди, дороги лесом нет, оттоле никто не ездит… Прямо к барскому дому подойдешь, недалече.
И пошел я мимо овинов к лесу, пошел просекой, утопал выше колена в снегу; было тихо, неособенно холодно и облачно. Это «недалече» мне показалось так версты в три. От меня валил пар, голова была мокрая, а я шагал и шагал. Вот, наконец, барский дом, с выбитыми рамами, с полуободранной крышей, с заколоченной жердями крест на крест зияющей парадной дверью под обвалившимся зонтом крыльца. Следов нигде никаких. Налево от дома в почерневшем флигеле из трубы вьется дымок, а от флигеля тропочка в другую сторону от меня. Вхожу в большую избу, топится печь. Около шестка хлопочет старушка, типа пушкинской няни.
— Здравствуйте. Это Подберезное?