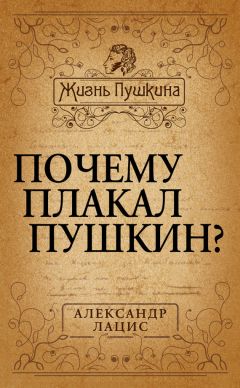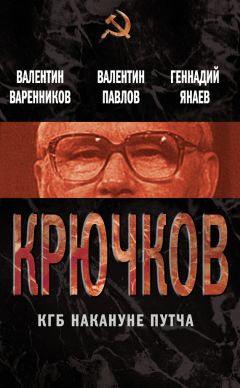В разряд анонимов – опять-таки только на первый взгляд – не вмещается и следующее издание.
№ 744. Шахматный анализ Филидора.
Но прочитаем заглавие полностью. Перед нами «новейшее издание», осуществленное с изменением способа нотации автором «Шахматных стратагем». А кто это? Опять-таки псевдоним. Его фамилия – Монтиньи – указана в каталоге Антуана Барбиера!
Впрочем, первоначальный автор, Филидор, согласно каталогам Барбиера и затем Кверара, тоже псевдоним! Его родовая фамилия была Даникан.
Вдавался ли Пушкин во все эти подробности? Не обязательно. Достаточно предположить участие С. А. Соболевского.
Итак, мы убедились, что вся десятка книг, без единого исключения, состоит из изданий анонимных, псевдонимных или мистифицирующих.[8]
Но как только мы выйдем за пределы десятка (№ 739–748), мы тут же споткнемся.
№ 749. Стихотворения крестьянина Егора Алипанова.
Фамилия не вымышленная, подлинная. Если допустить, что № 749 попал не в свою компанию, тогда мы обязаны такое же предположение распространить и на № 741.
Остается надеяться, что в книжке Алипанова есть какие-то свои занятные секреты.
Что же мы видим? Во-первых, как в случае с Филидором, в роли анонима выступает… издатель! Предисловие «От издателя» подписано двумя буквами: «Б.Ф.». Б.Ф. – журналист, которого все звали Борька Федоров.
Во-вторых, в этой книжке напечатаны, среди прочего, стишки, сочиненные вовсе не Алипановым, а маленьким мальчиком, по имени Николенька. Сочинитель Николенька, которому всего лишь шесть лет, – это сынок издателя. Он же в книжке торжественно величается «Николай Борисович Федоров».
Еще раз отметим, что ни на одном из сохранившихся экземпляров отдельного издания «Конька-Горбунка» 1834 года никакой дарственной надписи нет, как не было ее и на журнальной публикации.
Само собой разумеется, что мнимый, подставной автор не мог преподнести Пушкину его собственное, пушкинское сочинение.
И совершенно неправдоподобна, необъяснима обратная ситуация. Как мог студент Ершов, если допустить, что он и есть подлинный автор, если допустить, что Пушкин ему помог с изданием и вроде бы кое-что подправил – как мог сей предполагаемый автор не выразить при помощи надписи свою признательность?
Остается единственный признак, по которому затесался в десятку анонимов и псевдонимов не подписанный «Конек». Он находится на своем месте, в числе литературных мистификаций.
Что из того следует? Пусть продолжает издаваться, изучаться, приносить ученые степени принадлежащий П. П. Ершову «Конек-Горбунок». В его, Ершова, обработке, то есть по тексту 1856 года.
И пусть на равных правах с пятью наиболее известными сказками Пушкина, с ними заодно, печатается пушкинская редакция «Конька-Горбунка». В точности воспроизводящая издание 1834 года. Всякому свое[9].
Известная поговорка гласит: «Когда двое говорят одно и то же – это далеко не одно и то же. Вот почему при перемене имени автора меняется смысл. Проступают сокрытые в глубине значения. Не те ли, о коих упоминала Анна Ахматова? «Бутафория народной сказки служит здесь для маскировки политического смысла».
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
Знакомо? Еще бы: «Медный всадник. Петербургская повесть».
Что означают слова «петербургская повесть»? Неужели всего лишь то, что действие происходит в Петербурге, и что статуя стоит на площади? Не похоже на Пушкина, чтоб он тратил слова попусту.
Всякое утверждение содержит в себе отграничение, противопоставление, отрицание.
Повесть, а не что? Не сказка.
Петербургская, а не российская.
Столичная, а не народная.
Какое там, в «Медном всаднике», основное противостояние? Государство и личность.
На чьей стороне Пушкин? Об этом спорят давно, в равной степени доказательно, в равной степени неубедительно. Права отдельно взятой личности тогда, в 1833 году, – по преимуществу тема столичная.
Пушкин не свои взгляды излагает, а различные убеждения, бытующие в петербургском обществе. Вот как Пушкин пересказывает общепринятую, «петербургскую» точку зрения на историю.
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной,
Россию поднял на дыбы!
А вот строки забытые, упущенные из виду.
Конь поднялся от Земли,
Под ногами – лес стоячий.
Облака над ним ходячи…
Где отыскались эти строки? В первопечатной редакции «Конька-Горбунка». Тут не пародия на «Медный всадник», а своего рода противовес, как выражались древние эллины – «антифон», другая половина хора. На одном коне – Петр Великий, или его воплощение, горделивый истукан, на другом коне, на Горбунке – Иван-дурак.
Неподвижная мощь государства и вольная воля народа – вот силы, которые приходят в соприкосновение, в столкновение на страницах сказки.
Страной правит отжившая, беззубая, седая власть. Скоро завершится очередной династический цикл. Он достигнет рокового, предельного возраста – семидесяти лет, и царствование упадет в бурлящий, в кипящий котел. А пока что страна тяжко страждет от неподвижности. От крепостничества? Не только. Многие беды от того, что государство, оно же чудо-юдо рыба-кит, заглотнуло три десятка кораблей с парусами и с гребцами. Заключенные находятся в китовой утробе уже десять лет. И пока они не будут освобождены – ничто не сдвинется с места.
Чудо-юдо рыба-кит лежит поперек моря-окияна. И никуда не может повернуться преграда, остановившая всякое движение, любой прогресс.
Сотни раз печатали «Конька-Горбунка» под рубрикой «детская сказка», на уровне издательства «Малыш». Сказку давно бы вернули по принадлежности, Пушкину, – если бы не следовала за этим опасность проникновения в авторский замысел.
Пушкин про десять лет не случайно упомянул. В 1834 году минуло девять лет со дня мятежа на Сенатской площади.
Соответствующие выдержки приводим в редакции 1834 года.
Мы приедем на поляну –
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит;
Десять лет уж он страдает,
А доселева не знает,
Чем прощенье получить…
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты…
Он, бедняк, меня прошал,
Чтобы я тебе сказал:
«Скоро ль кончится мученье?
Чем сыскать ему прощенье?
И за что он тут лежит?»
Месяц ясный говорит:
«Он за то несет мученье,
Что без Божия веленья
Проглотил он средь морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
То сниму с него невзгоду…»
Чудо-кит поворотился,
Начал море волновать
И из челюстей бросать
Корабли за кораблями
С парусами и гребцами…
Остается признать очевидное. Никакие власти не разрешили бы прославленному певцу вольности обнародовать его сокровенные думы. С «Ершовым» цензура сделала промашку, но затем спохватилась. На протяжении тринадцати лет запрещалась дальнейшая перепечатка произведения, которое, мол, не соответствует современным понятиям и образованности.