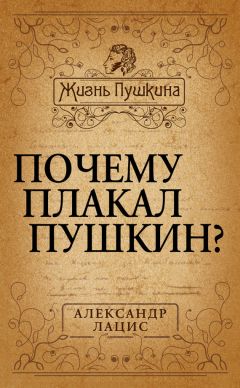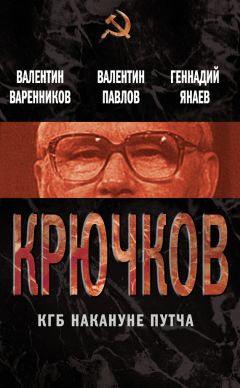Остается признать очевидное. Никакие власти не разрешили бы прославленному певцу вольности обнародовать его сокровенные думы. С «Ершовым» цензура сделала промашку, но затем спохватилась. На протяжении тринадцати лет запрещалась дальнейшая перепечатка произведения, которое, мол, не соответствует современным понятиям и образованности.
Так продолжалось до кончины царя Николая (1855), до начала эпохи русских реформ. А первый указ Александра II был указ об амнистии, о возвращении декабристов.
К сожалению, задолго до того, в минуту «страшной хандры», то есть с перепугу, Ершов уничтожил бумажные следы участия Пушкина. Ершов устранял и, так сказать, стилистические улики. Он открещивался от достойного литературного уровня.
Вместо «Перстень твой, душа, сыскал», появилось «Перстень твой, душа, найден». Вместо «Если ж нужен буду я» – «Если ж вновь принужусь я».
Косноязычие и неблагозвучие плодилось и множилось. Например «приподнявшися».
Прошло сто лет. И нашлись умельцы усматривать в подобной маскирующей правке возросшее мастерство. В чем? «В творческом использовании художественных приемов народной сказки».
Впрочем, столь несообразные похвалы делались в те годы, когда чудо-юдо рыба-кит вновь был частоколами изрыт и лежал поперек дороги. Исторические науки, наравне со многими кораблями, парусами и гребцами, были обречены на неподвижность. И не дозволялось спросить: «Куда ты скачешь, Горбунок?»
У нашего построения есть недостаток: мало того, что оно неправдоподобно, оно еще и невозможно.
Это что же выходит? Поднадзорный поэт Пушкин доверяется незнакомому студенту и привлекает его к тайным уловкам, к тому, чтобы обойти цензуру, Бенкендорфа, да еще и высшего цензора, императора Николая.
Даже с Плетневым поэт не мог обсуждать никакие противоправные умышления. Характер Плетнева и его придворное положение исключали возможность обдуманного ослушания, неподчинения властям. Между тем, познакомивший Ершова с Пушкиным П. А. Плетнев – та фигура, на которой держится весь сюжет.
Почему же Плетнев не заподозрил никакой недозволенной подоплеки? В единственном случае он мог быть совершенно спокоен: если весь замысел исходил от… самого Плетнева!
Зададимся вопросом, который обсуждался не раз. Если Пушкин Моцарт, то в ком были черточки Сальери? Кто был труженик, преданный искусству, заучивший правила, не наделенный высоким дарованием, зато склонный к поучениям, повторявший – «Ты, Моцарт, недостоин сам себя!»
Называли – совершенно напрасно – Баратынского. Называли Вяземского. Даже в Пушкине, поскольку он уважал секреты мастерства и трудился прилежно, пытались отыскать штрихи сальеризма.
Плетнева во внимание не принимали: он казался уж слишком бесцветным. Но Плетнев, которому Пушкин предоставил право переменять знаки препинания, вероятно не раз превышал полномочия и произносил что-нибудь вроде «Ты, Пушкин, недостоин сам себя!» или «Недостойно Александра Пушкина!» Петр Александрович был при Пушкине на правах личного редактора, казначея и советчика.
«Я был для него всем:…и другом, и издателем, и кассиром….Ему вздумалось предварительно советоваться с моим приговором каждый раз, когда он в новом сочинении своем о чем-нибудь думал надвое».
Перечитайте переписку Плетнева с Гротом. Оказывается, мнения Плетнева неустойчивы, его оценки меняются в зависимости от того, что люди говорят. Он судит размашисто, но всякий раз под влиянием только что услышанного. В конце концов, Грот избавился от иллюзий и перестал ждать от Плетнева каких-либо самостоятельных суждений.
Первая из сказок в народном духе – о царе Салтане, а за ней вторая – о мертвой царевне – были напечатаны Пушкиным под своим именем. Вот что гласила недобрая молва, она же общее мнение.
Зачем автор «Евгения Онегина» и «Полтавы» взялся перекладывать в рифмы народные сказки? Пусть простонародные сказки печатаются в своем первозданном виде.
Пусть поэт создает свое, а не пробавляется пересказами.
Даже Виссарион Белинский поддался распространившемуся брюзжанию. В газете, так и называвшейся «Молва», он писал в конце 1834 года: «…судя по его сказкам мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю». «Пушкин теперь так мало народен, когда решительно хочет быть народным; странно видеть, что он теперь выдает нам за нечто важное то, что прежде бросал мимоходом, как избыток или роскошь».
По всему вероятию, Плетневу показалось, что публика и впредь не сумеет дозволить Пушкину-поэту выходить за рамки, очерченные «Онегиным» и «Полтавой». А посему, чем выступать с еще одной сказкой, не лучше ли взяться за продолжение «Онегина»?
О том есть свидетельство, оставленное поэтом: «Ты мне советуешь продолжать Онегина, уверяя меня, что я его не кончил». Затем о том же в стихах:
Ты мне советуешь, Плетнев любезный,
Оставленный роман наш продолжать…
… Привалит публика, платя тебе за вход
(Что даст тебе и славу и доход).
В подтверждение особой роли Плетнева в судьбе «Горбунка» приведем выдержку из позднейшего – 1851 года – письма к нему П. П. Ершова. «Книгопродавец… сделал мне предложение об издании «Конька….Я писал к нему, чтобы он доставил Вам рукопись и всякое Ваше замечание исполнил бы беспрекословно».
Стало быть, Ершов признавал, что суждения Плетнева о тексте «Конька» важнее, чем собственное мнение Ершова[10].
Почему же Плетнев, много лет спустя, после кончины Бенкендорфа, Уварова, царя Николая, не раскрыл всю подноготную?
Было бы не очень красиво ставить П. П. Ершова в то неловкое положение, которое создал сам Плетнев. Претензии возникли бы не только моральные. Потомственная купчиха, Наталия Николаевна немедленно потребовала бы возвернуть денежки.
Кроме того, ординарный член Академии наук и ректор столичного университета не мог подорвать свою солидную репутацию и признать, что принимал участие в презабавном приключении, в обмане неусыпной цензуры.
Плетнев не участвовал в преддуэльных интригах. Но с литературным наследием Пушкина, во избежание скандальных финансовых претензий вдовы, он счел себя вынужденным обойтись не лучшим образом, и, сам того не желая, очутился в положении посмертного Сальери. Возможно, что были и другие подменные сюжеты, еще более невероятные и, для самого П. А. Плетнева, еще более неудобные.
Подобные затеи могли увлечь Пушкина по многим причинам. Во-первых, ему была присуща страсть к созиданию тайн, розыгрышей, мистификаций.