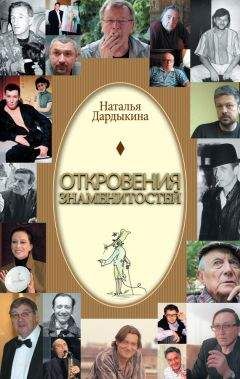В каждом слушателе Евтушенко уважает собеседника, перед ним доверчиво выворачивает себя наизнанку. Ему хочется, ему очень важно услышать эхо, отзвук своего высказывания, собственной самоиронии, удостовериться, что публика все еще ждет от него новизны, очередного эпатажа.
Можно представить, когда Евтушенко пишет, он пребывает на воображаемом просцениуме и пробует, перебирает нужные интонации, определяет свой новый имидж. Зрелый лицедей, он отрепетировал и сыграл множество ролей. Высокий, упакованный в броские кофты, пиджаки невообразимых расцветок, подобно ярмарочному балагуру он выпаливал: «Меняю славу на бесславье, ну а в президиуме стул на место теплое в канаве, где хорошенько бы заснул… Вдали бы кто-то рвался к власти, держался кто-нибудь за власть, а мне-то что до той напасти — мне из канавы не упасть». Совершенно очевидно, что уничижение для поэта — предпочтительный шаг к славе: «И там в обнимку с псом лишайным, в такой приятельской пыли я все лежал бы и лежал бы на высшем уровне — земли». Видите, как бы ни унижал себя поэт, он в уме сохраняет этот «высший уровень» — для себя, для своих стихов, чтоб непременно в этой житейской канаве, хотя бы со спичечного коробка, на него обратил внимание сам Блок.
Маска грешного изгоя все еще дорога Евтушенко. Правда, это добровольное купание в пыли уже несколько поизносилось. Куда симпатичнее рыцарственность, возникающая в поэзии зрелого Евтушенко, его всегдашнее поклонение женщине. Так, он посвятил стихотворение супружеской паре Мэри и Джо, вспомнив коротенький миг, когда он, Женя, был ее героем: «две молодые головы на «ты» шептались в прошлом счастье». Ей, когда-то прыгнувшей к нему в объятия, он поет свой ноктюрн: «Вы — незаслуженный мной случай, благодарю вас навсегда».
Евтушенко часто обвиняют в нескромности. Но сам он в стихах старается соблюдать иерархию на поэтическом Олимпе. Один из толпы, он пришел поклониться Ахматовой на смертном одре, отдать должное великой поэтессе и уходящей Руси. Он сопоставляет два дорогих имени: «И если Пушкин — солнце, то она в поэзии пребудет белой ночью».
Поздний Евтушенко по-прежнему любит публицистические темы: «Я не откажусь от той эпохи, на какую нечего пенять, от стихов, которые так плохи, что без них эпохи не понять». Этот укол в язычок своих критиков он смягчает лирическим козырем: «Я не откажусь от всех девчонок, тех, с какими грех мне был не в грех. Я их всех любил как нареченных, жаль, что не женился я на всех». Ну просто восточный паша! Одно отличие — всех своих жен Евгений Александрович любил.
Юбилей — время покаяния. И здесь Евтушенко неутомим. В стихотворении «Посмертная зависть» он, на мой взгляд, несколько грубовато выговаривает тем умершим, кто в своих интервью высказывался о нем нелестно. В свое оправдание Евтушенко приводит довод, который может сделать своим спасительным принципом каждый: «В людей хороших я не плюнул словом, и потому ни на кого не злой, из-под земли и на земле оплеван, я счастлив на земле и под землей».
Книга стихотворений Евгения Евтушенко «Я прорвусь в XXI век» открывается публицистической статьей, в которой он откровенно признается, что не любит сегодняшних проворовавшихся добытчиков — шакалов:
С таким оскалом вам по скалам
не доползти до облаков.
Между шакалом и Шагалом
есть пропасть в несколько веков.
Евтушенко цитирует строчки Альбера Камю: «Каждая стена — это дверь». И поэтому совершенно справедливо суждение Евтушенко: «Даже на глухой стене можно нарисовать форточку надежды». Любопытный сын поэта, его полный тезка, в 9 лет спросил отца, увидев роспись потолка в Сикстинской капелле Микеланджело: «Папа, а ты где окажешься — в аду или в раю?» Вопрос показался ему интересным, а эту философскую тему о жизни и смерти он афористично обобщил: «Выбросьте ад из головы». Этот пелевинский совет хорош, но смотря как его понимать. Может быть, все-таки лучше держать для самоконтроля ад в голове, чтобы его не было в жизни». 17 июля 2008 г.
Вячеслав Шалевич: «Стараюсь не ханжить, говорить правду, но тактично»
В детстве с арбатской ребятней он играл в руинах разбомбленного Театра Вахтангова, а потом всю жизнь на его сцене. Множество ролей он сыграл в кино. Любил красивых женщин, самозабвенно предавался страстям и за это платил очень дорогую цену: умерла любимая жена, сына пришлось спасать от увлечения наркотой. Сильный человек преодолел все. У Александра Блока он нашел пророческие строки:
Пройди опасные года.
Тебя подстерегают всюду.
Но если выйдешь цел — тогда
Ты, наконец, поверишь чуду…
Незадолго до своего семидесятилетия он вновь стал отцом.
— Вячеслав Анатольевич, подурачиться любите?
— Обожаю.
— В молодости повесничали?
— Н-е-ет! Никогда. Паясничать мог.
— Своевольничали?
— Еще не разучился.
— Случалось ли Шалевичу быть шальным?
— Меня даже в школе называли шалявой.
— Слышали фразу: «Тут ночью на Арбате пошаливают»?
— Сам довольно долго пошаливал.
— В юности лазили в чужой сад?
— Нет. Я городской. И природу просто не знал. Мои шалости были невинными. Во время войны был я с детдомом в деревне. Увидел на траве какашки козьи и спрашиваю: «Что это такое?» Меня разыграли: «Собери побольше и отнеси повару — он тебе конфетки сварит». Набрал я, в двух руках принес. Ну, он меня изрядно поколотил. Бегал за мной — еще поддать.
— Пострадал мальчишка за наивность… Все эти глаголы я отыскала в словаре Даля — они объясняют корень вашей фамилии. Так что вашим белорусским предкам дали фамилию за их повадки и привычки. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.
— Хотя я детство провел во дворе Вахтанговского театра, но родители мои — люди не театральные. Я воспитывался с мамой. Она разошлась с отцом до моего рождения. Даже карточки его долго не показывала. Работала она секретарем-машинисткой в Министерстве обороны, была горячей активисткой. Про папу я мало чего знал. Потом, когда уже стал популярен, приехал я в Бийск для встречи со зрителями. И вдруг меня ошарашили: «Вас ищет отец». — «Какой еще отец?» — вздрогнул я и все-таки решил его повидать. Подошел к нему и спросил: «Вы кто?» — «Я Шалевич Анатолий Иванович». — «Вы мой отец, что ли?» Он ответил смущенно: «Я так подумал…» Мы долго с ним сидели, мирно разговаривали. Оказывается, отец был репрессирован и потом остался после лагерей в месте ссылки — в Бийске.